ВВЕДЕНИЕ
Глава I. ЖИЛИЩЕ, ДВОР,
НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ Глава II. ОРУДИЯ ТРУДА
И ИНСТРУМЕНТЫ Глава III. ТРАНСПОРТ И УПРЯЖЬ Глава IV. ТКАНИ. Глава V. ОБУВЬ. Глава VI. ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ Глава VII. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ Глава VIII. ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
XVIII - начала XX в.в. Глава IX. ФОРМЕННЫЙ КОСТЮМ Глава Х. ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ Глава XI. НАГРАДНЫЕ И
НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ. АРМАТУРА.
ЗНАКИ НА ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ Глава XII. ОРУЖИЕ Глава XIII. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Глава XIV. ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ Глава II. ОРУДИЯ ТРУДА
И ИНСТРУМЕНТЫ Глава III. ТРАНСПОРТ И УПРЯЖЬ Глава IV. ТКАНИ. Глава V. ОБУВЬ. Глава VI. ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ Глава VII. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ Глава VIII. ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
XVIII - начала XX в.в. Глава IX. ФОРМЕННЫЙ КОСТЮМ Глава Х. ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ Глава XI. НАГРАДНЫЕ И
НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ. АРМАТУРА.
ЗНАКИ НА ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ Глава XII. ОРУЖИЕ Глава XIII. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ Глава XIV. ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Беловинский Л.В.
История русской материальной культуры.
История русской материальной культуры.

Глава XIV. ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
- 1. Мебель
- 2. Русская народная резьба и роспись
- 3. Народное узорное ткачество
- 4. Кружевоплетение
- 5. Вышивка
- 6. Набойка
- 7. Вышивка бисером и стеклярусом
- 8. Стекло и хрусталь
- 9. Керамика
- 10. Глиняная игрушка
- 11. Изделия из металла
- 12. Осветительная арматура
- 13. Ювелирные изделия
- 14. Пряники
- 15. Иллюстрации

1. Мебель
Мебельные формы всегда органически были связаны с архитектурой
определенных исторических стилей, элементы которых широко
применялись в мебельном искусстве. У немцев, законодателей в
музейном деле, стильной мебелью считается только оригинальная мебель,
созданная до 1850 г. Коллекции музеев обычно и состоят из стильной
репрезентативной мебели, принадлежавшей богатым или высокопоставленным
лицам. Поэтому может показаться, что вся мебель
той или иной эпохи была такова. В действительности же большая часть
домашней обстановки, особенно у небогатых людей, состояла из
простых предметов, даже если и хорошо выполненных, то все равно
скромных и неукрашенных. Эта часть мебели осталась незамеченной
коллекционерами и музеями, ценившими прежде только роскошные
вещи, и не сохранилась. Так что, опираясь только на музейные коллекции,
мы можем реконструировать лишь часть повседневной жизни
прошлого, ее казовую сторону.
Этот принцип наименования стилей характерен и для других стран. Так, в английском мебельном искусстве известны стили Уильяма II и Марии (1689—1702) и королевы Анны (1702—1714) и мебельщиков Чиппендейла (1718-1799), Адама, Хэплуайта и Шератона, в Испании стиль чурригереско, названный по имени мебельщика Чурригеры (1650-1723), в Австрии стиль Марии Тереэии (1717-1780). Известны и другие европейские стили мебели: во Франции стиль директории (1795-1799), а в Германии и Австрии — стиль цопф, в России известный как классицизм. В России стили мебели (и не только) также иногда именуются по царствовавшим императорам: Елизаветы I, Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I.
Профессия мебельщика в России выделяется в самостоятельную в XVI в. В это время под влиянием итальянцев, в большом количестве приехавших в Россию в конце XV в., сказывается позднее Возрождение. Столешницы прямоугольные, боковины столов и табуретов со всех сторон глухие, почти до пола, ножки в опорной части фигурные точеные. Иногда низ боковин или верх спинок кресел выполняется в форме полукруга. Широко используются архитектурные мотивы: царги приобретают вид арок, ножки решаются как колонны. Высокие кресла и стулья брусковой конструкции с решетчатыми спинками часто кончаются ступеньками. Видную роль играют наглухо вделанные в стены лавки, опирающиеся на фигурные ножки-стамики. В красном углу недалеко от стола ставился поставец с открытыми, уменьшавшимися кверху полками для ценной парадной посуды. На особом кормовом поставце стояла посуда для повседневного обихода. Тут же был рукомой с лоханью, подававшийся к столу для мытья рук между блюдами. В большом ходу были шкафчики-сундуки и рундуки, напоминающие европейские средневековые креденцы. В светлицах стояли небольшие складные зеркала, ларцы-укладки для тканей и драгоценностей.
В XVII в. в обиход социальной верхушки начинает входить привозная европейская мебель. Западноевропейские столы отличаются сильно вынесенной столешницей на кувшинообразных ножках, отделаны резными подзорами, кругами в филенках, багетом. Кресла XVII в. полумягкие, спинки прямые или наклонные, в подлокотниках выемка.
Мягкие детали кресел обтянуты бархатом, парчой, гладкой или тисненой кожей. Вся мебель массивная, прочная и устойчивая. В русском мебельном искусстве применяются различные породы, но особенно ценится дуб. Все узловые соединения на шипах. Древесина часто окрашивается с сохранением текстуры бейцами или покрывается темперными, клеевыми, масляными красками, золотится, серебрится. Применяется также вощение (покрытие горячим воском) и лакирование смолами. Мебель украшается резьбой, инкрустацией и росписью, часто применяются токарные детали.
В украшении столешниц в XVII в. начинают применять мозаику из различных пород дерева и камня, инкрустацию цветным стеклом, перламутром, кусочками зеркала. Роспись свободная, в виде незатейливых бытовых сюжетов, животных и растительного орнамента. Обычно расписывались передние и боковые стенки шкафов, сундуков. Ткани широко используются не только для подушек, но и для драпировок, подвешивавшихся сзади мебели для сидения.
Мебель из обихода социальных низов дошла до XX в., сохранившись в крестьянской повседневности. Стол большой, с соотношением сторон 1:2 или 3:5; подстолье в виде дощатых боковин с фигурными выемками снизу, соединенных проножками, либо в виде точеных, слегка наклонных ножек, соединенных фигурными царгами и, в нижней части, плашмя положенными широкими проножками; иногда крестьянские столы были с одним-двумя выдвижными ящиками в широкой царге. Кухонные столы-поставцы выше обеденных, с выдвижными ящиками и полками за дверцами. Стулья появляются только в XIX в.; форма их симметричная, устойчивая, дощатое сиденье квадратное, спинка также дощатая или решетчатая, сквозная, ножки слегка расставлены и выгнуты. В народном быту чрезвычайно популярны сундуки разных размеров, до 2-х м длиной, шкатулки-укладки длиной 40-50 см, с наклонной крышкой, иногда с секретными отделениями, вделанными изнутри в крышку зеркальцами, с внутренними замками «с музыкой». Сундуки и укладки окрашиваются масляной краской, часто расписываются цветочным орнаментом, иногда они с фигурными железными накладками и коваными ручками по бокам, либо полностью обиты жестью с «морозом» — серебристым орнаментом по черному фону, напоминающим морозные узоры на окнах. В XIX в. появляются шкафы, украшенные точеными деталями, резьбой и росписью, орнамент растительный, иногда использовались жанровые сцены.
В домах социальных верхов в начале XVIII в. стены покрываются резными панелями из дуба, ореха, чинары, а выше их — тисненой золотом испанской кожей или затягиваются холстом с росписью по нему. Появляются зеркала, картины, люстры. Печи покрыты кафелем с росписью синим по белому. Полы керамические или паркетные. Потолки также иногда расписываются. Мебель русская или привозная.
В это время сильно влияние Голландии, Германии и Англии. Русская мебель остается массивной, приземистой, со скульптурной обработкой несущих деталей. Широко употребляются резьба, токарное дело, наборные вставки, иногда роспись маслом. Используется воскованный дуб, орех, иногда красное дерево или окрашенная береза. Для обивки применяют гладкую и тисненую кожу, бархат, сукно на частых гвоздях с медными шляпками. Спинки кресел и стульев высокие, прямые, глухие или сквозные, у сидений широкая обвязка, ножки точеные, прямые, либо же кабриоли с сильным расширением у царги и птичьей лапой с зажатым в ней шаром внизу. Проножки расположены низко. Подлокотники кресел сильно изогнуты. Появляется новый вид мебели — банкетки. Столешницы прямоугольные или квадратные, подстолье массивное, с кувшинообразными ножками с каблучком, с филенками на царгах, широкими проножками. Широко употребляются шкафы, застекленные для посуды и глухие, для одежды, двухстворчатые, с массивным карнизом и филенками в дверцах; часты привозные данцигские шкафы, с картушем, врезанным в фигурный карниз, пилястрами и филенчатыми створками с крупным глухим рельефом, с шарообразными ножками. В употреблении также поставцы с застекленным верхом и глухим, выступающим вперед низом. Рамы зеркал и картин профилированные или резные, в верхней части сложный орнамент.
Мебель в стиле Буль, изредка попадавшая в Россию или воспроизводившаяся здесь, фанерована черным деревом и богато украшена бронзовыми накладками и маркетри, набранными пластинками черепахи, олова, позолоченной меди, кости. Формы ее тяжеловаты, контуры прямолинейны, прямоугольные в сечении ножки сужаются книзу, все завершения и цоколи решены строго. Ведущий элемент орнамента — крупные симметричные завитки лозы. Мастера, следовавшие приемам Буля, чернодеревцы, тесно сотрудничали с маркетерами и бронзировщиками.
Ближе к середине XVIII в. мебель, русская или привозная французская и английская, становится уютнее, мягче, приобретает криволинейные формы. Конструктивные узлы маскируются декором. Для резьбы характерна асимметрия, криволинейность форм, динамизм. Употребляются картуши, волюты, фламы, аллегорические женские фигуры, амуры, раковины, гирлянды, стилизованные цветы, ветки с листьями, плоды. Орнаментальные мотивы мелкие, с тонкой моделировкой. Широко употребляется наборная работа и инкрустация, бронзовые накладки, живопись по цветным лакам, позолота по бесцветному или цветному левкасу, окраска в нежные тона. Это стиль рококо. У мебели для сидения спинки грушевидные, верх обвязки с резьбой; у диванов иногда спинки составлены из двух-трех соединенных вместе спинок стульев. Ножки упругие, сильно прогнутые, кверху расширяются и плавно соединяются с обвязкой, низ образует завиток с каблучком. Расширяется набор столов: появились письменные бюро, декоративные консоли под зеркала, светильники, скульптура. Столешницы с мозаикой или росписью, иногда используется мрамор с выраженной текстурой. Широко употребляется резьба на царгах и несущей части консолей, проножки обычно фигурные. Кровати с высокими фигурными спинками и царгами с профилированными кромками, невысокими, сильно изогнутыми ножками. В моду входят грациозно изогнутые легкие шезлонги, двухместные диваны «тет-а-тет». Шкаф стал нарядным, изящным по линиям, поднятым на высокие ножки. Появились комоды на высоких прогнутых ножках, с фигурными крышками, выпуклыми боковыми стенками; передняя сторона наборная или украшена живописью. В обиход также начинают входить каминные экраны на ножках. В интерьерах резной или лепной позолоченный декор сплошь заполняет стены, обрамляет окна, двери, зеркала, десюдепорты. Появились новые типы помещений: будуар, кабинет. Наборный паркет из разных пород дерева всех цветов и оттенков на щитах, сравнительно строгого рисунка, где сочетаются геометрические формы с растительным орнаментом. В простенках между окнами обилие зеркал, вделанных в стены. На переборках обычны панно в профилированных лепных рамах, с иллюзорно выполненными пейзажами. На потолках, также в причудливых профилированных рамах живописные плафоны с иллюзорным изображением неба и аллегорическими или мифологическими фигурами в нем. Сильным стало увлечение китайщиной (шинуазри) и японщиной (джапанери): в интерьерах употребляются восточные шелка и лаковые панно, в поставцах многочисленный восточный фарфор. Дух интимности и утонченности проникает во всю обстановку.
В целом для рококо характерен подчеркнутый отказ от конструктивности и функциональности и иллюзорное разрушение внутреннего пространства, его слияние с окружающей постройку природой.
На дальнейшее развитие стиля повлияли начавшиеся в 1719 г. раскопки Геркуланума и в 1748 г. — Помпеи. В 1752 г. в Лондоне вышел первый альбом античных древностей, а с 1762 г. выходят периодические «Античные древности». Законодателем мод становится Англия. Но все же в основном мебель в Россию ввозится из Франции, которая становится эталоном для русского дворянства. В Москве появляются мастерские Споля, Миллера, Корка, в Петербурге — Гамбса, Шарлеманя, Тура. Открываются мебельные мастерские и в Твери, Ярославле, Орле, Калуге. Существенную роль сыграл манифест 1762 г. о вольности дворянства, вызвавший отток дворян со службы в поместья и развитие усадьбы. Богатые помещики начинают отдавать своих крепостных на обучение к известным мастерам и те, по отзывам иностранцев, добиваются больших успехов.
Для второй половины XVIII в. характерно создание целых мебельных гарнитуров, связанных единством форм, материала и отделки, а также разделение мебели на дворцовую, парадную и бытовую. В формах широко используются мотивы поэднеримской классики и итальянского Возрождения. Наметился переход к более спокойным формам, сменившим причудливость рококо. Наступает время торжественности, тяжеловесной парадности, простоты форм, ясной выразительности конструкции, симметрии и математической уравновешенности членений, особенно в концу столетия. Это эпоха классицизма. Ножки мебели спокойно изгибаются, одна деталь плавно переходит в другую, а ближе к концу века ножки только прямые, суживающиеся книзу, покрытые каннелюрами. Края столешниц и верхних досок комодов получают слегка волнистый обрез, а затем преобретают четкие формы прямоугольника, овала, круга. Опоры подлокотников приобрели геометрический контур или форму стилизованных ваз. Спинки диванов представляют две-три овальных спинки стульев, соединенных вместе или один большой овал. Места столярной вязки не декорируются или отмечаются стилизованными розетками. Декор с ритмическим повторением основного мотива в виде спокойно провисающих гирлянд цветов, листьев, лент, венков с бантами. Широко используются также классические полосы двулистников и трилистников, жемчужника. Популярна профилировка кромок. Рельеф невысокий, с мягко эаоваленными кромками. Резьба размещается на царгах, обвязке спинок, подлокотниках. В отделке ведущее место занимает полихромная окраска по левкасу маслом светлых тонов, сочетающаяся с позолотой. Обивка чаще штофом и атласом, где полосы сочетаются с венками и букетами. Употребляется также одноцветный бархат и купоны из гобелена с изображением венка, перевитого лентами, букета, вазона. Встречается даже английский ситец и домотканый холст, вышитый гладью цветной шерстью в подражание гобеленам.
В конце века в моде также брусковая мебель для сидения в английском духе, с сиденьями из тростниковой соломки. Сквозные спинки, иногда в виде готических арочек, покрываются росписью с изображением фигур, букетов. Расписная мебель соседствует с дорогой наборной. Интарсией из дерева разных пород украшаются столешницы, подставки для жирандолей, футляры напольных часов, доски бюро.
В последней четверти XVIII в. видное место начинает занимать мебель из красного дерева. Этому способствовал немецкий мебельщик Рентген, который трижды, в 1784, 1785 и 1790-х гг. привозил в Петербург крупные партии мебели. Две первые партии закупило дворцовое ведомство, а третья ушла в свободную продажу, повлияв на работы русских мастеров. В его изделиях основную декоративную нагрузку несли плоскости полированного красного дерева с хорошо видной текстурой древесины. Красное дерево Рентген сочетал с золоченой бронзой: мелкими профильными накладками жемчужника и т.п., заменявшими резьбу. Ученик Рентгена Гамбс открыл в Петербурге, а затем и в Москве мастерские. Но бронзовые профилировки он заменял вставками черного дерева.
В Европе в конце века мебель красного дерева стали часто украшать плакетками из фарфора Веджвуда, где по синему, желтому или светло-зеленому фону располагались белые силуэтные античные сценки невысокого рельефа; французы заменили веджвудский фарфор севрским. В России пользовались плакетками, ввозившимися из Англии и Франции, но нередко дорогой фарфор заменяли картоном с легкой живописью акварелью. Для украшения мебели использовали также технику агломизе: на стеклянной позолоченной пластине гравировались какие-либо композиции, либо на золотом фоне выполнялись черные силуэты. Дорогую интарсию заменяли раскрашенными гравюрами с античными сценками, по которым проходились тушью тонким пером.
В конце 80-х гг. фанеровку привозным красным деревом заменяют карельской березой и схожим с ней по текстуре тополем («паплевым деревом»). Большое распространение получила и обычная береза, имеющая у комля слегка волнистый свилеватый рисунок; она называлась волнистой или атласной березой и употреблялась в чистом виде или окрашенной под красное дерево. Популярной в России разновидностью мебели из красного дерева и карельской березы стала мебель «жакоб» — отдаленное подражание известному французскому краснодеревцу Жакобу, для которого было характерно широкое использование бронзовых золоченых накладок. Русские мастера по всей длине прямоугольных брусков, из которых собиралась мебель, накладывали ребристые латунные полоски, а на места конструктивных сочленений — полированные латунные круги, ромбы, квадраты. Иногда ребристые накладки из металла заменяли резьбой по дубу. Такой «жакоб» был в большой моде до конце XIX в.
Во второй половине XVIII в. шло дальнейшее расширение набора мебели. Появились новые типы столов: ломберный, дамский рабочий столик для занятий рисованием, вышиванием, с отделениями для красок, кистей, ниток и т.д., стол-бобик со столешницей в форме боба, письменные столы-бюро и секретеры, туалетный столик с шарнирно закрепленным на столешнице между двумя стойками овальным или прямоугольным зеркалом-псише и с многочисленными ящичками в подстолье. В кабинетах появились небольшие книжные шкафы с дверками, закрытыми легкой латунной решеткой или сеткой, за которой натягивалась зеленая тафта. Популярным стал широкий турецкий диван без спинки в виде трех положенных друг на друга толстых тюфяков с разбросанными по ним подушками. Появилась и новая мебель для сидения — небольшое креслице без спинки, но с подлокотниками; в Европе оно называлось «султанша», а в России стало называться банкеткой.
Паркеты, обработка стен и потолков в конце XVIII в. стремятся к простоте и умеренности. Стены богатых домов обтягиваются штофом с простым орнаментом, иногда отделываются по штофу рейками, имитирующими панели; в верхней части стен можно увидеть фризы, выполненные в технике гризайль, имитирующей невысокий рельеф. Лепнина на потолках умеренная, преимущественно по углам и в центре, роспись в виде медальонов в профилированных лепных рамках, а также гризайль, имитирующая лепнину и кессоны сводчатого потолка, либо «помпеянские» росписи: арабески мелкого яркого растительного орнамента, в который вплетены птицы с ярким оперением, амфоры и вазоны. В домах попроще стены и потолки затягиваются холстом с окраской клеевыми красками и скромным растительным орнаментом.
Первая треть XIX в. отмечается стилем ампир, несшим отпечаток беспрерывных наполеоновских войн, включая Египетский поход Наполеона. Еще со времен Французской революции с ее своеобразной игрой в античные гражданские доблести в широкий обиход входят мотивы древнеримского искусства, а преимущественно военные и, отчасти, древнеегипетские мотивы. В орнаментах преобладают мечи, копья, ликторские фасции, шлемы, щиты, латы, лавровые венки, а также львы, грифоны, орлы, лебеди, сфинксы, головки и фигурки египтянок из искусства Древнего Египта. Основными материалами остаются красное дерево, тополь, карельская и атласная береза, начинает употребляться ясень. Продолжается изготовление крашеной мебели, в основном черно
зеленых и черно-коричневых тонов. В начале 20-х гг. Росси вводит новый тип мебели: из простого дерева, покрытой белой краской с умеренной золоченой резьбой; новый стиль получил название стиля Росси. Мебель этой эпохи можно разделить на три периода. В первом десятилетии еще сильно влияние раннего классицизма: формы и пропорции легкие, бронза и позолота используются мало, большую роль играет полированная плоскость красного дерева и карельской березы.
После 1805 г. начинаются перемены, но окончательно второй период определяется с 1810 г. до конца 20-х гг. Мебель характеризуется торжественностью и парадностью, архитектурным построением. Объемы членятся пилястрами, полуколонками, увенчиваются профилироваными карнизами. Иногда углы срезаются. Плоскости спокойные, орнамент скупой, в виде пальмет, аканта, лавров, венков. Широко начинают использоваться накладки из позолоченного дерева, папье-маше, керамики, реже бронзы.
Последний период ампира приходится на 30-е гг., когда стиль начинает вырождаться: орнамент становится мельче и суше, но зато обильнее, а величавая торжественость сменяется казарменной холодностью и громоздкостью. Шкафы всех типов стали массивнее, спинки мебели для сидения разнообразны по формам и декоративным решениям, часто переходят в ножки; характерны глубокие корытообразные спинки, переходящие в подлокотники, а их верхние концы, загибаясь, напоминают форму легкого римского щита. Спинки и сиденья могли иметь мягкую обивку сафьяном, полосатым или цветочным ситцем, шелковая обивка однотонная, с фактурными цветами, коричневая, красная, зеленая, песочного цвета. Успехом пользовались светло-зеленые тона весенней травы, различные оттенки золотистого цвета, гармонировавшие с красным деревом и карельской березой. В моде были также одноцветные ткани с чередующимися блестящими и матовыми полосами. Часто в обивке используется вышивка цветной шерстью, гладью и крестом; изображаются венки, букеты, гирлянды, амфоры. Бархат используется редко, в основном в дворцовых интерьерах, кожа — в кабинетной мебели. Сиденья и спинки легких стульев в столовых затягиваются плетеной соломкой, полосками камыша, ротанга. В то же время распространены жесткие фанерованные спинки, появившиеся и у диванов. Столы круглые или овальные, в моде остается стол-бобик, царги высокие, центральные массивные опоры столов обильно орнаментированы, к ним примыкают консоли в форме птиц. Распространены консольные столики. В употребление входит кушетка — диван без спинки, с высокими подлокотниками. Совершенно новым видом мебели стало очень глубокое кресло-диван с большим квадратным сиденьем с высокими спинкой и боковинами, на которых закреплялась полочка для книги, подсвечника; такое кресло называлось «краианд» — жаба. В интерьерах гостиных появляются ширмы, ранее находившиеся только в спальнях: они прикрывают комнату от свойственных анфиладам сквозняков. Часто в таких ширмах в верхней части вместо ткани использовались прозрачные стекла, чтобы ширмы не затеняли помешений. Многостворчатые ширмы, а также легкие решетки из реек, трельяжи, по которым вилась зелень и подставки-жардиньерки для цветов, выгораживают в гостиных уютные уголки. Появившиеся в конце XVIII в. зеркала-псише, шарнирно закрепленные между стойками, достигают больших размеров, появляясь в гостиных, будуарах. Кровать получила форму ладьи: изголовье и изножие стали делаться слегка откинутыми и округло изгибающимися в двух плоскостях. Такую же форму начинают придавать подлокотникам диванов и кушеток.
Стремление к комфорту и уюту, отказ от представительности привели и к переменам в обработке стен и потолков. Давно исчезли живописные панно со стен, которые оклеиваются холстом и даже бумажными обоями, окрашиваются в скромные тона и иногда расписываются вручную букетами или венками; популярны были одноцветные обои с вертикальными полосами разных оттенков зеленого или синего цвета. Потолки белятся и в лучшем случае вдоль карнизов проходят обрамляющие их скромные профилированные тяги; только в парадных помещениях богатых домов можно встретить роспись гризайль, либо «помпеянские» росписи. Паркеты также скромны и просты по рисунку, например, в виде широкой полосы растительного орнамента по периметру помещения и орнаментального круга в центре, выполненных из дерева одного тона.
Ближе к середине XIX в. замечается дальнейшее упрощение интерьеров и стремление к уюту. В отделке мебели темных тонов (для тонирования начинают использовать анилин) изредка применяется скромная резьба, полировка, инкрустация черепахой и бронзой или заменяющей ее латунью; появляются вставки из цветного стекла. Реминисценции романтизма, свойственного эпохе ампир, проявляются в мотивах орнамента: по-прежнему это военные мотивы — стрелы, факелы. В середине века появляется гнутая «венская» мебель из окрашенного в темные тона бука, со светлыми сиденьями из полосок камыша, бамбука, ротанга. Зарождается фабричное производство мебели и специализированные мебельные магазины, в том числе торгующие «бельем» для дальнейшей доработки мебели силами покупателя; они также принимают заказы на отделку. Ведется поиск функциональных форм мебели, кривизны спинок. Стены в помещениях гладкие, под светлой клеевой краской. Начинается перенасыщение интерьеров мягкой мебелью, столиками, шкафчиками, этажерками с многочисленными безделушками, фарфоровыми и даже раскрашенными гипсовыми фигурками «национальных типов», тяжелыми портьерами и драпировками со шнурами с кистями и ламбрекенами — матерчатыми подвесками фестонами. В комнатах много зелени в трельяжах и жардиньерках. На стенах огромное количество картин, портретов, в том числе и даггеротипов, гравюр на паспарту, в окантовке или в плоских рамках из красного дерева или карельской березы с темными дубовыми квадратами по углам. Это эпоха бидермайера — мещанского стиля, стремящегося к уюту, но с претензиями на романтику.
Во второй половине XIX в., с отмиранием «больших» стилей наступает время использования «исторических стилей» и эклектики — смешения элементов различных стилей. Широко распространяется мебель мастерских Гамбса, по формам близкая к рококо, с обрамлением спинок стульев деревянным контуром сложного профиля, стеганой обивкой. Широко распространяется «кутаная» мебель со сборками, драпировками на золоченых гвоздиках, с декоративными сетками, кистями и бомбошками, многоярусной, часто золотой бахромой; используется декоративно-обивочная тесьма, фабриками начинает производиться обивочный баркан, имитирующий гобелен. Резьба очень обильная, сложная, даже беспорядочная по рисунку. Мебель вся темных тонов. Для отделки широко используются золоченая бронза и латунь, фарфоровые медальоны, инкрустация, кость, перламутр, черепаха или, чаще, имитация пластмассами, под стиль буль. В кабинетах появляются обширные письменные столы с массивными бронзовыми или комбинированными с поделочным камнем письменными приборами и со специальными полочками для многочисленных кабинетных фотографий; фотографии в окантовке или скромных рамках заполняют также стены кабинетов. Гарнитуры кабинетов и столовых делаются в стиле Возрождения либо барокко, причем иногда используются подлинные фрагменты золоченой и тисненой кожи. Также широко распространена ложная готика, преимущественно тюдоровская, с полным покрытием стен и потолков темными дубовыми панелями с резьбой. В большой моде псевдорусский стиль; выполненные по рисункам Ропета (псевдоним Петрова) и Гартмана, братьев Васнецовых, Малютина шкафчики, полочки, столы, стулья имитируют древнерусскую и крестьянскую мебель; она обильно украшена якобы русским орнаментом, скопированным с крестьянских полотенец и старинных рукописных книг. Популярным стало дубовое кресло, в котором спинка и передние ножки выполняются в виде покрытой реэьбой дуги, подлокотники имеют форму топоров, воткнутых в сиденье, на котором вырезаны ямщицкие голицы. Это так называемый «петушковый» стиль.
В начале XX в. в русское искусство вторгается стиль модерн. В чистом виде он встречается реже, а чаще с элементами готоки или русского стиля. Мебель по-прежнему темных тонов, но приобретает легкие формы. Спинки стульев и кресел брусковые, иногда образующие ажурные решетки, линии их прямые, но в многочисленной неглубокой резьбе с заоваленными кромками, по контрасту употреблялись прихотливо извивающиеся стебли растений со сложной формы цветами, изогнутые шеи цапель и лебедей, спины и хвосты пантер, женские головки с переплетающимися спутанными змеевидными прядями волос. Кривые линии вяло опадающие или, напротив, упругие, в них ведущее место занимает асимметрия. Широко распространены вставки из фаянса, цветного стекла, латуни. Вообще же дерево становится господствующим материалом, в том числе и в отделке стен, которые покрываются обоями с характерными для модерна разбеленными тонами и сложным растительным орнаментом, контрастирующими с темным деревом. В моду вошли китайский фарфор, японская миниатюрная скульптура нэцке, заполнявшие полочки легких этажерок и шкафчиков. Распространению стиля способствовала состоявшаяся в 1902 г. комплексная выставка «Современное искусство».
Дальнейшие политические события прервали развитие мебельного искусства в дореволюционный период.
Народной разновидностью мебели является сундук, занимавший важное место не только в жилище крестьянском, мещанском и купеческом, но и в дворянском (в служебных помещениях). Сундучное производство было широко развито практически во всех областях России, как для внутреннего потребления, так и для экспорта в Казахстан, Среднюю Азию, Персию, Китай, Монголию. Сундук представлял собой прямоугольный ящик того или иного размера, с плоской или слегка округленной откидной крышкой на петлях. Как правило, он стоял на низеньких деревянных ножках, С боков прочно закреплялись кованые поворотные ручки для переноски. Обычно сундуки запирались на замки, висячие, для чего прибивались накидная петля и пробой, или внутренние. Внутренние замки сами иной раз представляли любопытное произведение слесарного искусства, поскольку делались с «музыкой»: при повороте ключа многочисленные стальные пружинки издавали мелодичный переливчатый звон. Внутри сундука могли иметься небольшие отделения, иногда секретные, для разных мелочей, ювелирных украшений, денег. В крышку изнутри нередко вделывалось небольшое зеркало: сундук с откинутой крышкой превращался в своеобразный «зеркальный» шкаф. В простом народе было принято оклеивать крышку изнутри разнообразными картинками, начиная от оберток от мыла. Снаружи деревянные сундуки окрашивались в спокойные тона, чаше всего в зеленый, синий, и нередко расписывались ярким цветочным орнаментом. Для прочности и красоты «скрыни» часто обшивались узкими полосками жести, образующими ромбический узор, а в ромбах могли помещаться расписные яркие букеты цветов. На Урале сундуки иногда целиком обшивались жестью с «морозным» узором: по черному фону шли серебристые узоры, напоминавшие замерзшие окна.
Разновидностью сундуков были небольшие дорожные укладки-подголовники: невысокие, с покатой крышкой и непременно с внутренним секретным замком, с отделениями внутри, также снабженными секретными запорами. Они обивались фигурными железными полосками и имели ручки.
В дороге на ночлеге или в экипаже такие укладки с деньгами и ценными бумагами ставили под голову, накрывая подушкой. Укладки нередко украшали штучными выкладками карельской березы или делали их из красного дерева с полировкой, либо имитировали красное дерево. Могли быть и дешевые расписные укладки.
Еще одна дорожная разновидность сундука — погребец, обычная принадлежность дворянского и купеческого быта. Это небольшой сундучок, зачастую красного дерева, иногда украшенный интарсией, либо, наоборот, целиком обшитый шкурой животного: телячьей, тюленьей. Внутри погребец разделялся на несколько отделений, куда помещались небольшой складной дорожный самовар, чашки, блюдца, солонка, сахарница, чайница и т.д.
Сравнительно редкими были матросские сундучки со слегка заваленными внутрь стенками, что придавало им большую устойчивость при качке, с сильно округленной крышкой и с мягкими ручками, сплетенными из тонкого троса. Они всегда были на широких и относительно высоких ножках, чтобы не подмокло содержимое. Бывали щегольские сундучки под красное дерево, но чаще они обшивались просмоленной и прокрашенной парусиной. Изнутри на крышке маслом писалось изображение любимого корабля владельца. Размер сундучка был таков, чтобы он помещался под матросскую койку в кубрике.

2. Русская народная резьба и роспись
Музейные отделы дерева обычно вместе с мебелью хранят и коллекции
русской народной резьбы и росписи по дереву, тем более, что
эти техники широко применялись и при украшении немногочисленной
крестьянской мебели. Большое место в народном искусстве занимала
домовая резьба — украшение наличников окон, подзоров и причелин
на кровлях и т.д. Широко распространено мнение, что пышные
резные наличники крестьянских и мешанских жилиш XX в. и есть
образчики древнего народного искусства. На самом деле пропильная
резьба и ее мотивы — сравнительно недавнего происхождения. Во
второй половине XIX в. либеральная интеллигенция, группировавшаяся
преимущественно вокруг земств, обеспокоенная относительным
обезземеливанием крестьянства и падением его жизненного уровня,
делала многочисленные попытки организации крестьянских
внеземледельческих промыслов. Развитие крестьянских ремесел поощрялось
и стимулировалось организацией кустарных выставок и специальных
магазинов, скупавших или бравших на комиссию крестьянские кустарные
изделия и продававших по сниженным ценам инструмент и материалы.
Одновременно среди крестьян распространялась многочисленная
литература в помощь кустарям, а также альбомы рисунков изделий,
созданные профессиональными художниками невысокого уровня,
имевшими самое приблизительное представление о традициях русского
народного искусства (в это время только начиналось интенсивное
изучение национального художественного наследия). Продажа лобзиков
и рисунков и привела к появлению пропильной резьбы, не имеющей
никакой связи с древними народными традициями. Это, разумеется,
не значит, что такая резьба не заслуживает внимания: народные
мастера не только копировали рисунки из альбомов, но и переиначивали
их по своему вкусу или самостоятельно вырабатывали новые образцы,
но под влиянием вошедших в обиход новых мотивов; просто
это не традиционное, а новое искусство, насчитывающее, однако,
уже около полутора сот лет.
Традиционная домовая резьба глухая: доска не прорезалась насквозь, а в ней делался углубленный плоский рельеф с заоваленными кромками. Широко использовались древние мотивы, связанные с языческими верованиями славян и средневековым искусством: розетки, символизировавшие солнце, львы с «процветшим» хвостом, птица-Сирин, русалки-берегини или «девки-фараонки», видимо, пришедшие в народное искусство из корабельной резьбы XVIII в., когда кормы кораблей украшались резными наядами и нереидами. Вообще русское народное искусство в больших масштабах впитывало элементы нового городского искусства, и с классицистических барских особннков в него пришли античные мотивы аканта, пальмет, жемчужника, овы, дентикулы, кимы, органически сочетавшиеся с традиционными мотивами.
Помимо глухой резьбы, в народном искусстве использовалась резьба трегранновыемчатая, очевидно, наиболее архаичная, ногтевидная и скобчатая. Трегранновыемчатая резьба выполнялась резцом (ножом), под углом подрезавшим волокна древесины с трех сторон так, что после удаления древесины образовывалось трехгранное углубление, представлявшее в плане сильно вытянутый треугольник. В этой технике и выполнялись различные розетки и их фрагменты. Ногтевидная резьба, мало распространенная, выполнялась полукруглой стамеской и представляла сочетание узких полумесяцев. При скобчатой резьбе лезвие ножа входило в материал под прямым углом и углубление в сечении имело вид прямоугольника. Мелкая резьба такого типа, называемая контурной, широко использовалась для украшения орудий труда и домашней утвари.
В интерьерах изб и при украшении орудий труда и домашней утвари широко использовалась роспись земляными красками, растертыми на олифе (вареном льняном масле). Различаются два типа росписи: свободная кистевая и контурная. При свободной кистевой росписи изображение, обычно растительный орнамент с крупными яркими розанами, наносилось без предварительного рисунка кистью или «тычком», палочкой с намотанной на конце куделью. Для контурной росписи предварительно пером наносился тонкий черный рисунок, который затем заполнялся красками. Свободная кистевая роспись обычно крупных форм, тогда как контурная — мелочная, дробная. Роспись могла сочетаться с резьбой, включая раскрашивание резьбы, а также могли сочетаться оба типа росписи.
Наиболее представительным видом музейных предметов с крестьянской резьбой и росписью являются прялки и донца для гребней. Впервые попытка классификации прялок была сделана в начале XX в. А.А. Бобринским. Он выделил 8 типов прялок, в результате собирания и изучения прялок в советское время стало известно более 30 их разновидностей; такая дробность привела к распаду четкой типологической системы и представляется, что в ряде случаев можно и нужно пользоваться классификацией Бобринского. Отметим, что сложности с классификацией усугубляются тем, что за советское время несколько раз менялись административные границы областей, не совпадающие с границами дореволюционных губерний.
В северных губерниях, до Ярославской, преобладали целиковые прялки, вырубленные из ствола дерева вместе с корневищем. Такая прялка имела различные местные названия, например, «копанец», «копыл».
Преимущественно в Верхнем Поволжье бытовала составная прялка, в которой высокая ножка или «столбик», выточенная вместе с лопастью, «лопаской», вставлялась в донце. Здесь же в Поволжье, преимущественно в Нижегородском крае, в широком употреблении был вставленный в донце широкий кленовый гребень, на длинные зубья которого надевалась куделя.
Считается, что наиболее архаичной формой прялки является целиковая прялка с широкой плоской ножкой, постепенно сужающейся к небольшой лопаске. Такую форму имеют ярославские «теремковые» прялки с ромбической лопастью (север Ярославской губернии), грязовецкие (юг Вологодской губернии) и буйские (северо-восток Костромской губернии) с полукруглой снизу лопастью, которая у грязовецких прялок заканчивается мелкими «городками» (зубцами), а у буйских — тремя плавно поднимающимися рогами. Ромбическая лопаска березовых ярославских прялок слегка отогнута относительно плоскости ножки. Эта прялка украшается мелкой контурной резьбой, сочетающейся с ногтевидной с сюжетами чаепития и гуляния на ножке и часами на лопаске, иногда увенчанной стилизованным двуглавым орлом и как бы изображающей ратушную башню. Грязовецкие прялки украшены розетками трегранновыемчатой резьбы, а ножки их часто бывают прорезными. Наиболее старые буйские прялки были с трегранновыемчатой резьбой, а с середины XIX в. украшались свободной кистевой росписью с крупными розанами.
Наиболее архаичными по орнаменту считаются мезенские или палащельские прялки, изготавливавшиеся на реке Мезень в селе Палащелье. Они также целиковые, но со сравнительно высокой тонкой ножкой и большой лопаской, завершающейся растущими вверх к середине зубчиками-городками. Эти прялки расписные: по желтому или красноватому охристому полю черным или красным цветом изображаются вереницы стилизованных коней или оленей, чередующиеся с решетчатым орнаментом.
Целиковые прялки-копыл характерны для большей части территории Вологодской губернии. Это прежде всего крупные прялки Тарноги. Для тарногских прялок характерна огромная, украшенная крупными розетками и их фрагментами трегранновыемчатой резьбы, лопасть с мелкими городками, на коротенькой ножке. Аналогом их являются более легкие прялки из Нюксеницы и Никольского уезда с рядом сквозных круглых прорезей, в которые нередко на проволоке вставлялись крупные цветные каменные бусины.
Прялки, изготовленные на притоке реки Сухоны Печенге делались с более высокой ножкой и уменьшенной лопаской, прорезанной крупными отверстиями с вписанными в них крестами и сплошь покрытой мелкой трегранновыемчатой резьбой. Еще более декоративны тотемскне прялки с высокой ножкой, сравнительно небольшой лопастью с тремя плавными рогами вверху и двумя «сережками» на нижних углах, с раскрашенными трегранновыемчатыми розетками и росписью вокруг них.
Толшменские (на реке Толшма) прялки отличаются еще более высокой стройной ножкой и квадратной лопаской с рядом куполообразно расположенных мелких городков или всего тремя крупными городками, с ярко выраженными серьгами и раскрашенной резьбой, дополненной росписью. Различных местных вариантов таких прялок довольно много.
Подобны им вычегодские (по реке Вычегда) прялки с относительно большой прямоугольной лопастью и сравнительно высокой ножкой; прямым городкам вычегодской прялки отвечает ряд таких же сережек, а лопасть украшена крупной раскрашенной розеткой с окружающими ее яркими розанами.
Широко известны шенкурские прялки Северной Двины. Они могут быть целиковыми и составными, с раскрашенными в разные цвета элементами точеной ножки. Сравнительно большая прямоугольная лопасть с городками и сережками украшена свободной кистевой росписью по желтому или красноватому полю: несколько крупных центральных розанов окружаются более мелкими цветами со стеблями и листьями.
На Северной Двине бытуют и пермогорские прялки-копыл с фигурной, украшенной росписью ножкой; большая прямоугольная лопасть с городками и серьгами здесь по белому полю украшена мелкой контурной росписью. Сплошной ковер мелкого растительного орнамента внизу сменяется сценой катания; общий колорит росписи красно-зеленый, как на иконах «северных писем».
Подобны пермогорским и борковские прялки, но роспись здесь делалась в три регистра: внизу сцены катания, выше — яркий растительный орнамент с преобладанием красного цвета и птицы с ярким оперением, а вверху — золотые окна.
В отличие от пермогорских и борковских ракульскне прялки имеют желтоохристый фон, жанровых сцен здесь нет, а яркий растительный орнамент окружает крупную птицу, исполненную черным контуром. В целом эти три сходных типа могут быть названы северодвинскими прялками, как это сделал Бобринский.
Среди целиковых прялок русского Севера выделяются несколько вариантов каргопольских прялок. Ножка их очень короткая, неширокая длинная лопасть украшается сдержанным геометрическим узором трегранновыемчатой резьбы.
На Кенозере орнамент раскрашивался и лопаска покрывалась свободной кистевой росписью с яркими небольшими розанами по зеленому полю, а на озере Лача на таких прялках резьбы не было и по зеленому полю шли крупные розаны в вертикальной композиции.
Своеобразны составные поморские прялки побережья Белого моря. Их высокие тонкие точеные ножки ярко раскрашены, а небольшие веслообразные лопаски покрыты крупными раскрашенными розетками трехгранновыемчатой резьбы. Поморские прялки могут быть и целиковыми, но с фигурными ножками.
В Новгородской, граничащей с нею южной части Тверской и даже Псковской губерниях бытовали прялки с высокими, спускающимися почти до донца лопастями, украшенными резьбой; лопасть соединялась с донцем на шипах.
В большей же части тверского Поволожья употреблялись точеные составные прялки с высокими тонкими раскрашенными ножками и небольшими трапециевидными лопасками с яркой росписью; в старой классификации они назывались тверскими.
Прялки с высокой плоской резной или росписной ножкой и маленькой трапецеидальной лопаской с городками характерны и для района Шексны и Пошехонья. Роспись шекснинских и пошехонских прялок мелочная, напоминающая книжные заставки или узоры ситца. А прялки-согожанки, названные от реки Согожи, украшались контурной резьбой, в которую втиралась черная краска. В то же время известны и ржевские прялки, у которых плоская короткая ножка, перехватом сужающаяся под прямоугольной лопастью, соединена с донцем на шипах. Лопасть и ножка почти сплошь покрываются розетками трегранновыемчатой резьбы. Для ареала бытования верхневолжских прялок характерны и ярославские составные, у которых на высокой четырехгранной прорезной, украшенной трегранновыемчатой резьбой ножке, напоминающей башенку, располагалась маленькая трапецеидальная лопаска, сплошь покрытая резьбой.
В районе Верхней Волги для прядения широко использовались и гребни, вставленные в донца. Довольно распространены были резные верхневолжские донца округлой или прямоугольной, но с закругленными углами формы с трехгранновыемчатой резьбой. Такие донца с более вытянутыми досками распространяются по всей Центральной России. Резьба сплошь покрывает донце или размещается только по концам и на головке. Широко известны также городецкне донца, характерные для Нижегородского края, но попадающиеся и в Костромской и Ярославской губерниях, куда они ввозились из Городца. Городецкие донца двух типов. Более архаичные довольно широкие, и в верхней части и на головке, а иногда и по всей плоскости инкрустированы мореным дубом, дополненным контурной резьбой; на них изображается катание в экипажах или верхом на конях и все это может сопровождаться изображением цветов или деревьев. Поздние Городецкие донца сплошь расписные. Живопись находится на головке и в двух регистрах доски, разделенных узким поясом. В верхнем регистре обычно сцены гуляния дам в широких юбках и облегающих жакетах, либо сцены катания верхом на черных конях. В нижнем регистре могут быть вазоны с цветами, птицы или жанровые сцены. В поясе помещается ряд ярких цветов. На головке изображаются вздыбленные кони или тетерева с ярко-синими распущенными хвостами. Преобладают черные и синие краски по желто-охристому или светло-красному фону. С резными прялками соседствуют швейки, целиковые или составные приспособления для шитья и вышивки. Это невысокие, покрытые трегранновыемчатой резьбой, прорезные столбики на донцах; на верхнем конце делалась мягкая подушечка или прибивался лоскут замши, куда булавкой прикалывалось шитье, натянутое в пяльцах. Иногда швейки в основании на донце имели небольшой пеналец для швейных принадлежностей. Создать какую-либо типологию швеек затруднительно.
Помимо прялок, росписями украшались предметы домашнего обихода, особенно праздничная посуда, выставлявшаяся на стол во время пиров — братины, ендовы, ковши-скобкари, а также туеса, хлебницы, точеные чашки, ложки, жбаны и т.д. Расписывались также сундуки, короба, укладки и некоторые элементы конской упряжи, орудия труда, интерьера и мебели: лавки, полки, посудники, шкафы, дверки голбцев, доски, прикрывавшие углы печей, детские люльки, дуги, коромысла, вальки, рубели, детали ткацких станов. Скорее как исключение, но все же можно назвать даже росписи потолков, особенно у «семейских» Алтая. Дуги, коромысла, вальки, рубели и некоторые другие вещи также украшались мелкой трехгранновыемчатой или скобчатой резьбой. Для росписи элементов интерьера фон делался общий для всего помещения, яркий орнамент обычно был цветочный, но могли попадаться и животные и даже бытовые сценки. Единство стиля росписей, разумеется, прежде всего объясняется господством данного типа росписей в конкретном районе. Да и местный набор земляных красок (цветные глины и растертые камни) был ограничен. Хотя крестьянин в принципе был универсалом и мог сам изготовить все потребное для жизни, посуду, орудия труда, конскую упряжь и пр. обычно покупали на рынке у кустарей-специалистов, которые для придания своим изделиям товарного вида и повышения цены и украшали их росписью или резьбой, опираясь на местные традиции и свои навыки. В коллекциях музеев особенно много домашней утвари с росписями, характерными для бассейна Северной Двины: Пермогорья, Ракулки, Борка.
Берестяные изделия украшались также тиснением: мастер с помощью простых металлических штампов набивал на бересте нехитрый, ритмически повторяющийся узор. В Архангельской губернии известна также шемогодская прорезная береста, которой украшали и небольшие вещи из дощечек, например, укладки: острым концом ножа на берестяной пластине прорезался сквозной орнамент и она наклеивалась на основу; иногда под эту накладку подкладывали фольгу. Украшались даже плетеные изделия: полоски лыка или бересты раскрашивались соком черники и клюквы, после чего из них плели пестери, кузовки, налопаточники, а иногда и праздничные лапти.
В настоящее время среди традиционных бытовых вещей, покрытых росписями, наиболее известна так называемая «хохлома» — посуда и прежде всего ложки, покрытые растительным узором с применением «золота». Такой тип росписи известен еще в XVII в. Бытовал он в Нижегородской губернии, в районе Городца, возле села Семенова. Точеные или резные изделия предварительно натирались, в качестве грунта, жидко разведенной глиной, а по ней — оловянным (сейчас — алюминиевым) порошком, по которому и наносилась роспись пером и «тычками»; затем изделие густо покрывалось олифой и просушивалось в печи. Серебристый фон под олифой приобретал цвет золота. Известны несколько типов росписи. Наиболее популярна «травка»: по золотому полю извиваются тонкие черные стебли трав с усиками и легкими перистыми листьями, кое-где перемежающимися с красными гроздьями рябины. В так называемой «Кудрине» собственно фон, очень незначительный по площади, черный или красный, а крупные, почти сплошь покрывающие изделия «цветы», напоминающие хризантемы с прихотливо извивающимися лепестками — золотые: мастер закрашивал промежутки между цветами и наносил линии леспестков, оставляя нетронутым основной фон. Кудрину напоминает «фоновая» роспись: здесь цветы, напоминающие ромашки или подсолнухи, листья и ягоды золотые, а промежутки между ними покрыты черной или красной краской. Архаичной была «осочка»: нанесенные по золотому полю изгибающиеся красные полоски, напоминающие траву, колышимую ветром. В чашках употреблялся также наносившийся на дно «пряник»: стилизованный квадрат с вогнутыми линиями, заполненный и окруженный простым растительным орнаментом.
Помимо «хохломской» бытовали и иные типы росписей. Например, на ложки-«хлыстовки» серо-коричневой мумией, разведенной на квасе, наносили извилистые струйки, напоминающие текстуру рябинового дерева. Довольно известны печорские (изготавливавшиеся на реке Печора и ее притоке Усть-Цильме) ложки, у которых по светлому фону чистого дерева наносится полихромный мелкий и густой геометрический орнамент.
Сразу же нужно сказать о форме деревянных ложек. В торговле различалось множество их типов. Это «носковая» ложка-«загибка» с сужающимся к концу «хлебалом» и плоским, постепенно сужающимся к хлебалу черенком; «серебрушка», напоминающая загибку, но с заплечиками на узком черенке, как на серебряных ложках; межеумок с круглым хлебалом и плоским черенком, прочная и широкая; бутырка или бурлацкая ложка, по форме напоминающая межеумок, но гораздо толще и грубее его; баская ложка с округлым на конце и сужающимся к черенку хлебалом и с круглым черенком, заканчивающимся шишечкой-«коковкой»; полубаская ложка с хлебалом овальным, поокруглей, чем у баской; «носатая», также с круглым черенком и коковкой, но с сужающимся к концу остроконечным хлебалом; староверческая, с вырезанным на конце черенка двоеперстием, и т.д., например, поваренок, разливушка, лузик: на каждом рынке бытовали свои типы ложек и их названия. В торговле также различались «тонкие» ложки или «хлыстовки», более чистой работы, и грубые, низкого сорта «сибирки».
Как уже явствует из описания прялок, каждый промысловый регион вырабатывал свой тип росписей. Например, чем-то сходна с пермогорской росписью верхнеуфтюгская (на реке Верхней Уфтюге, притоке Северной Двины) роспись на бураках (туесах): контурная, в виде изгибающегося стебля с короткими усиками, крупными листьями и цветами. Уже упоминалась роспись в интерьерах алтайских старожильческих изб: в синих прямоугольных и ромбических рамках с растительным орнаментом, по красному полю мелкие стилизованные цветы и птицы, синие, желтые, зеленые. На Урале бытовала так называемая «чердынская» (название по местному рынку) роспись туесов, с плотными букетами из двух-трех крупных розанов с темно-зелеными и синими ветвями и листьями, испещренными множеством белых и желтых прожилок. Такая же роспись была и на тагильских железных подносах и сундуках. Городецкая роспись с крупными цветами на красном поле, сценами гуляния и катания бытовала не только на донцах, но и на детских и грушках-каталках, сундуках, укладках и т.д. Со старинным селом, ныне городом Семеновым связана не только «хохломская», но и старинная мериновская и современная семеновская роспись. Собственно, мериновская роспись возникла также недавно: в начале 20-х гг.: по крахмальной грунтовке гусиным пером тушью наводился контур, который затем закрашивался красной, желтой и зеленой анилиновыми красками; орнамент — крупный цветок-розан в обрамлении листьев и мелких цветочков или ягодок. Семеновская роспись свободная кистевая, напоминающая мериновскую: ветви цветов и листьев, букеты или отдельные крупные розаны. Недалеко от Семенова в конце XIX в. появилась федосеевская роспись на игрушках: по желтоватому фону тонкая контурная, с извивающимися стеблями, фиолетовыми контурами и зелеными и красными листьями и цветами, нанесенными анилиновыми красками.
Местные школы резьбы и росписи возникали спонтанно, но иногда и создавались целенаправленно, профессиональными художниками, с целью дать заработок крестьянам. Так, результатом деятельности известного Абрамцевского кружка С.И.Мамонтова стала троице-сергиевская (загорская, абрамцевская) роспись и кудринская (хотьковская) резьба. В конце XIX в. в Троице-Сергиевом посаде была создана учебная игрушечная мастерская, а в начале XX в. тип троице-сергиевской росписи стал использоваться всеми кустарями. На шкатулках, поставцах, солонках, табакерках, блюдах выжигался контур стен, башен и храмов Троице-Сергиевой лавры, пейзажи с елочками и церквушками, бытовые сценки, и контур заполнялся плотными масляными красками. Этот тип росписи был перенесен в село Полх-Майдан Тамбовской губернии (сейчас — Нижегородская область), только выжигание было заменено наводкой контуров черной краской пером. На полхмайданских точеных изделиях по зеленому фону наведены извивающиеся стебли с мелкими листочками и яркими цветами и плодами: шиповник, колокольчики, яблочки, грозди ягод; роспись масляными красками. Кудринская (в селе Хотьково Московской области) резьба по самшиту плотно покрывает прихотливым растительным узором плоскости шкатулок и блюд. В Троице-Сергиевом посаде издревле бытовало производство игрушек, родившееся как побочное, с использованием отходов от изготовления ложек. Довольно обобщенно, без предварительной отделки заготовок произвольной формы резались и раскрашивались фигурки «барынь», «кормилиц», солдат, офицеров («гусары»). Иногда делались довольно сложные троице-сергневские игрушки с движением, например — группа солдат, закрепленных на подвижной решетке и «перестраивавшихся» при ее сдвигании и раздвигании. В самом посаде в основном отделывали игрушки росписью и торговали ими, а «белье», заготовки, производились в окрестных деревнях. Со временем игрушечное производство в одном из прилегающих сел, Богородском, стало самостоятельным. Богородские игрушки так и остались неокрашенными, покрытыми мелкой резьбой, имитируюшей складки одежды и шерсть животных.
К росписи по дереву примыкает так называемая лаковая роспись по железу и папье-маше; на самом деле лаки здесь не употребляются, но многослойные покрытия запеченной в печи олифы имитируют лаковое покрытие. Высокий эффект достигался путем многократного покрытия (до 7 раз) «лаком» тончайшей, также многоэтапной темперной живописи, с последующей полировкой каждого слоя; это придавало покрытию большую глубину. В современном производстве лаков на фабриках, особенно массовом, технологии для удешевления и ускорения изготовления вешей упростились, стали употребляться современные материалы вплоть до пластмасс.
Наиболее ранней является федоскинская живопись по папье-маше, известная также как лукутинская. В конце XVIII в. в селе Данилково под Москвой купец Коробов открыл небольшое производство круглых табакерок для нюхательного табака по французским технологиям, украшая их наклеенными гравюрами с портретами и сценами из русской истории; часть изделий украшалась живописью. В 1818 г. фабрика перешла к Лукутину и производство уже только живописных изделий приобрело большое разнообразие и получило огромную популярность. Для украшения изделий использовались тонкие копии с иностранных образцов и книжной графики, а также крестьянские и городские бытовые мотивы: чаепития, гуляния, катания на тройках и т.п., как на прялках и других народных изделиях. Живопись исполнялась в реалистической манере на черном фоне, причем иногда изображение делалось по перламутровой «подстилке» из тонких пластин речной раковины-перловицы или по сусальному золоту, что придавало живописи особый эффект внутреннего свечения, орнаментировалась золотой или серебряной сканью, золотой гравировкой. Чрезвычайно популярной была также роспись «шотландкой» — в виде пересекающихся узких полосок разного цвета, напоминающих фактуру шотландских тартанов (пледов), а также роспись под черепаху, красное дерево и бересту. В 1904 г. ввиду убыточности производство было ликвидировано, а в 1910 г. возродилось в селе Федоскино в виде артели живописцев, ранее работавших по окрестным деревням на Лукутиных.
Среди крестьянских промыслов дореволюционной России видное место занимала «суздальская» иконопись владимирских «богомазов», изготовлявших огромное количество недорогих икон для народа. В основном иконное производство было сосредоточено вокруг сел Палех, Мстера и Холуй. Каждый центр выработал свою манеру письма, ориентируясь на древние образцы новгородской, строгановской и «царской» школ. С утверждением Советской власти с ее официальным воинствующим атеизмом, иконописный промысел, естественно, прекратился.
Поскольку прокормиться земледелием на местных неплодородных землях было невозможно, бывшие иконописцы после неудачных попыток заняться росписью бытовых вещей по дереву обратились к опыту федоскинцев и занялись лаковой живописью по папье-маше. Однако при этом они сохранили старинные иконописные традиции и собственный оригинальный тип живописи. Палехская живопись в наибольшей степени повторила особенности федоскинского искусства. Здесь сказочные, былинные или даже реалистические сцены не только изображаются на черном фоне, но он играет активную роль: если палешинину нужно изобразить вороных коней, он «обрисовывает» их контуры окружающими деталями, разделывая фигуру коня иконописными «пробелами», «движками» и «оживками». Фигуры стилизуются в иконописной манере новгородской школы, они непропорционально вытянуты, с сильной внешней экспрессией, выражающейся в энергичных движениях, сложных беспорядочных складках одежд, решенных с помощью «пробелов»; постройки, деревья и цветы условны, часто прописываются золотом, а вся композиция ограничивается мелким золотым орнаментом.
Холуйская живопись для неискушенного глаза практически неотличима от палехской: здесь та же иконописная манера, активный черный фон, использование пробелов, движков и оживок, большая роль экспрессивных фигур в пейзаже; но колорит у холуян более насыщенный, преобладают контрастные теплый коричневато-оранжевый и холодный сине-зеленый тона.
Мстерская живопись резко отличается от палехской и холуйской. Черный фон здесь не употребляется, колорит светел и не ярок, с сильным преобладанием бирюзово-голубоватых и красновато-золотистых тонов, активна роль пейзажа, фигуры менее вытянуты, по пропорциям ближе к реальности, а движения менее экспрессивны.
С лаковой миниатюрой по папье-маше соседствует живопись по железу (жестяным подносам), сосредоточенная сейчас в селе Жостово под Москвой. Это старинный промысел, до революции в широких масштабах бытовавший в разных центрах производства металла, и особенно на Урале, вокруг Нижнего Тагила. Технологии здесь те же, что и в живописи по папье-маше: многоэтапная живопись темперой (подмалевок, замалевок, перемалевок и т.д.) с многократным покрытием олифой, сушкой слоев в печи и их полировкой.
Для жостовской живописи характерны яркие, плотно написанные букеты цветов на преимущественно черном фоне, а нижнетагильская роспись отличалась преобладанием синего, реже зеленого фона; прежде изображались условные крупные яркие розаны, в последние десятилетия изображения цветов более реалистичны, чтобы не сказать — ботанически точны.
Среди резных изделий особое место занимают пряничные доски и манеры — доски для производства набивных тканей. В толстой пряничной доске вырезалась углубленная, на толщину будущего печатного пряника, фигура человека, лошади или иного животного, птицы, рыбы, украшавшаяся затем мелким орнаментом. На старинных манерах резался неглубокий, ритмически повторяющийся орнамент; в позднейшее время орнамент на манерах стал набивным: в доску вбивались частые плоские металлические гвозди с загнутыми кончиками. Казалось бы, какая разница, трепать ночь напролет лен затейливо изукрашенным резьбою трепалом или простой дощечкой, носить тяжелые ведра на расписном коромысле или на простом? Но крестьянская жизнь с ее бесконечным тяжелым физическим трудом в неблагоприятных климатических условиях и, большей частью, бедностью, была, в общем-то, безотрадной. Эта суровость и скудость жизни требовала компенсации, которую и давало яркое, праздничное народное искусство, оживлявшее даже орудия труда яркой росписью и пышной резьбой. Об этом следует помнить при реконструкции музейными средствами крестьянской повседневности.

3. Народное узорное ткачество
Кроме ткачества гладких тканей, в крестьянстве было распространено
несколько видов узорного тканья: браное ткачество одно- и двухуточное,
выбор, ремизное узорное ткачество, ажурное ткачество.
Одно из самых древних — браное двухуточное тканье. При этой технике
использовали два челнока для утка — с красной и белой либо с
черной и белой нитями и белую основу, набиравшуюся в «нить»
(ремизки) стана попарно несколькими группами так, что очередные
перекрытия нитей последовательно сдвигались и получался красный или
черный орнамент. При одноуточном браном тканье на малом числе
дощечек, вставлявшихся между нитями основы, только одним челноком
с красным или черным утком получались контрастные участки
гладкого и с рельефными переплетениями полотна. Двухуточное тканье
шло на полотенца и затканки, одноуточное — на середины скатертей,
реже полотенца и детали женской одежды. Браное ткачество
применялось также при тканье пестряди в клетку и полоску, изготовлении
половиков. Применялись и другие способы тканья: закладная
техника, вытягивание петель из утка.
Ремизное ткачество на пяти и восьми ремизках производилось одним челноком, белым по белому, причем при использовании толстого шерстяного утка ткань получалась с высоким рельефом при узоре разновеликими и разной формы клетками. Восьмиремизная техника давала совершенно гладкую фактуру клетками и применялась для выполнения цветной каймы на белом фоне полотенец, скатертей, рубах.
Ажурным ткачеством с перевивкой нитей утка и основы выполнялись концы полотенец и каймы скатертей. Рисунок имел вид прозрачной сетки на фоне более плотного полотняного переплетения. К узорному ткачеству относится и тканье поясов-покромок. Преимущественно их ткали не на стане, а на руках, с небольшим подвижным бердом в форме узкого двойного гребня, а витые кушаки изготовлялись вручную на длинной игле.

4. Кружевоплетение
Кружево — сетчатая ткань из переплетенных нитей, выполненная
коклюшками, крючком или спицами. Для плетения коклюшками на
подставке из двух перекрещивающихся рам устанавливали туго набитый
круглый валик — бубен. К нему булавками прикалывали рисунок, или
сколок. Коклюшки — деревянные палочки длиной 17—18 см с головками
на концах. В работе они используются парами (до 40). Попарно наматывается
на них и нить, сначала на одну коклюшку, затем на другую. Узор
нанесен на плотную бумагу точками, определяющими места вкалывания
булавок; булавки, определяя узор, прикрепляют сколок к бубну, а
также поддерживают и соединяют нити при плетении. Узоры образуются
благодаря сочетаниям основных элементов кружева. Самый главный —
тесьма-полотнянка, или шлюшка; она ведет главный рисунок кружева.
Плетешок напоминает шнурок, часто украшенный отвивными петельками
с одной или двух сторон. Насновка — небольшие фигуры очень
плотного плетения овальной или четырехугольной формы. Они вплетаются
в сетку или решетку, образующую фон.
Кружева в основном создаются в парной и сцепной техниках плетения. Парной техникой создаются мерные кружева — прошвы, край, различные оплетки, мелкие узоры. Узор состоит из простейших геометрических фигур-разной плотности, ритмически повторяющихся. Штучные изделия выполняются сцепной техникой. Плетутся они тоже парами коклюшек, но все изделие еще при подготовке сколка делится на части, которые потом соединяются вязальным крючком. Узоры сцепного кружева состоят из плотно сцепленной тесьмы-вилюшки, которая, изгибаясь, ведет основной рисунок, выявляет формы орнамента, а также из решетки, служащей фоном.
Кружевница, плотно приколов рисунок к бубну, навивает нитки на коклюшки и навешивает их парами на булавки. Приемы плетения основаны на переборе — перекладывании в определенном порядке коклюшек. Плетут одновременно двумя парами коклюшек, которые кружевница держит в обеих руках. Остальные, не работающие в данный момент коклюшки, раскладывают по бубну парами, и они свисают с него.
В России были популярны некоторые западные типы кружев, послужившие основой русских кружев. Блонды — кружева из шелка-сырца золотисто-рыжего, естественного цвета. Алансонские кружева, особенно тонкие и дорогие, имеют правильный сетчатый фон. Валансьен — прозрачная тонкая правильная сетка-фон, плетется одновременно с узором, не имеющим никакой рельефности. Малин характеризуется сквозными фигурами, обведенными сканью.
Кружевоплетение проникло в Россию с Запада в XVIII в. и сначала лишь в помещичьи имения, поскольку требовало много времени и дешевых рабочих рук. В дальнейшем оно получило широчайшее развитие в мещанской среде, в крестьянстве же было распространено ограниченно. В народном кружевоплетении, в XIX в. даже сгруппировавшемся в определенных центрах (славились вологодские, елецкие и др. кружева), выработаны были оригинальные приемы плетения и узоры с собственными их наименованиями. Бытовал ряд самобытных типов кружева: «сетчатые денежки» как тип крестьянского «численного кружева» шириной в 2,5 см с простым узором; «сетчатое плетение» с переплетением нитей в косом направлении и в сочетании с плотной полотнянкой и сквозными решетками фона; «канфарные» кружева в виде сетчатой клетки; «гречишка» из сетчатых шестиугольников неправильной формы, расположенных в шахматном порядке, и др.
В середине XVIII в. появляются новые приемы: кружевная витая скань, скань — «елочка», ростовские сцепные кружева из льняных ниток. Раннее вологодское кружево первой половины XIX в. имело узоры прошвы из изображения симметричных пав и деревьев на густом фоне из овальных насновок, с зубцами растительного характера; особенностью зубцов было их окаймление полосой или цепью мелких фигурок. Калязин Тверской губернии славился кружевами типа малин, а Торжок — многопарным типом с изображениями женских фигур, коней и птиц. В Московской губернии плели «металлическое кружево» с рисунком «гребешками», но к середине XIX в. оно сошло на нет. Своеобразный волнистый рисунок имело кружево из Балахны Нижегородской губернии, а скопинское и михайловское кружево Рязанской губернии сначала имело «травчатый» рисунок с растительными узорами, который затем сменился геометрическим орнаментом; в Михайлове бытовало и «позументное» кружево как замена металлических галунов, здесь же употреблялись «бубенцы» — зубцы полукруглые и «мысы». Русское кружево было настолько высокого качества, что в торговле елецкие и мценские кружева иногда выдавались за французские и шли на мировой рынок.

5. Вышивка
Для вышивки в качестве основы использовалось преимущественно
тонкое отбеленное полотно из лучшего льна, а в южнорусских губерниях
еще и домашняя тонкая шерстяная ткань и сукно.
Широко использовался миткаль, окрашенный «на кумачное и китайчатое дело», а также ластик (сатин) и фабричная шерстяная ткань — кашемир, коленкор, кисея, а для вышивки золотом — атлас и бархат. В строчевом и гладевом шитье основой служили батист, маркизет. Для вышивания брали сученую (сканую) шерстяную пряжу — гарус фабричного изготовления. Гарус вводили в тамбурную вышивку, а в строчевую — для обводки контуров узора и для односторонней глади. Наиболее широко гарус начинает применяться с середины XIX в. В северных губерниях вышивали еще отбеленными или окрашенными льняными нитками, которые с середины XIX в. почти полностью были вытеснены хлопчатобумажными. Использовались также шелк и металлические волоченые золотые и серебряные нити. В XIX — начале XX вв. распространяется вышивка золотыми и серебряными нитями на бумажной основе, обернутой тонкой, чаще всего медной позолоченной или посеребренной проволокой. Использовалась также бить — расплющенная тонкая проволока и канитель — бить, свернутая в тонкую трубочку. В старину в крестьянском шитье широко использовался мелкий жемчуг (бурмицкое зерно) из Поморья, разноцветный бисер, в помещичьей среде — высококачественный венецианский и богемский бисер. Редким материалом для вышивания были солома и человеческий волос. Волос использовался в крестьянском быту для изготовления ритуальной одежды — «смертных» рубах, — в помещичьем — в сочетании с белым шелком — для пейзажных и сюжетных вышивок, имитирующих гравюру, на бумажниках для подарков. Вышивка соломой имитировала золотное шитье и более связана с городским бытом.
Техника вышивки.
Вышивание производится либо пропусканием нити с помощью иглы через материал и выведением ее снова на поверхность, либо путем расшивания, когда основная нить прихватывается сквозь ткань другой, тонкой нитью (шитье вприкреп). Более резкая грань существует между вышивкой и аппликацией — наложением на основную ткань фигурных кусочков иной ткани, которая всегда дополняется вышивкой.
Существует несколько способов вышивки: счетная техника, выполняемая по счету нитей основы, более древняя, и несчетная техника, выполняемая по намеченным контурам рисунка. К первой группе относится вышивка по цельной ткани: набор, двусторонний шов, косой стежок, крестик по счету нитей ткани, счетная гладь и т.д. — и по разреженной ткани — различные виды строчки. Ко второй группе относятся тамбурное шитье, несчетная гладь, крестик по канве.
Древнейшим видом шва является шитье набором (бранью, по браному): стежок кладется то поверх, то снизу ткани. Его особенность — негативное изображение узора на изнанке. Двусторонний шов выполняется способом «вперед иголку», затем нитки поворачиваются обратно и тем же способом заполняются пропущенные места с лица и изнанки ткани. Это один из древних швов, на Севере сохранившийся до середины XX в. Сначала накладывали «след» — стежок, охватывающий три или четыре нити холста, а выметав контуры (поэтому техника называется еще «по выметке»), начинали заполнять их клеткой, мелкой или более крупной, иногда перекрещенной двумя линиями или отмеченной звездочками, расположенными в шахматном порядке, либо же вся внутренняя часть узора заполнялась ступенчатыми линиями, цепочками ромбов и квадратов, расположенных по диагонали, вертикали, горизонтали — в зависимости от местности. Двусторонний шов дополнялся косым стежком, образующим полосы в узоре, набором и гладью. Вышивка косым стежком использовалась для головных уборов и была односторонней. Стежок клался на ткань косо, захватывая четыре нити основы и две нити утка; начало следующего стежка находится у середины предыдущего. Вышивка получалась плотной, как бы ковровой, и покрывала все поле. Контуры выполнялись черной нитью, узор — зеленой или желтой, а фон — красной.
Техника счетной глади (стлань, внастилку) использовалась как в сочетании с другими способами, так и самостоятельно. Стежки ее плотно прилегают друг к другу и покрывают ткань по счету нитей. Гладью украшали очелья сорок, рубахи, а кое-где паневы. Гладевые швы издавна применялись в золотом шитье, но в технике вприкреп: золотая нить пропускалась петелькой сквозь ткань и с изнанки прихватывалась шелковой нитью.
В XVI-XVII вв. в основном шили вприкреп. Основные приемы шитья: 1) плоская гладь — шов плоско ложится на ткань; 2) шов вприкреп по веревочке — с подкладкой под нити шнура; 3) высокая гладь — узор получался выпуклым; 4) вприкреп по настилу — золотые нити накладывались на толстые бумажные нитки; 5) шитье по карте — нити накладывались на узор из толстой бумаги, сложенной в несколько слоев, либо из толстой ткани, бересты. Шили золотой и серебряной нитью по холсту, а также по кумачу, шелку и бархату, с подкладкой из холста, и узор выметывали ниткой с изнанки по холсту, затем стегали с лицевой стороны ткани, покрывая узор хлопчатобумажными толстыми нитками, а поверх стеганого узора накладывали золотые или серебряные нити вприкреп. В народном золотошвейном деле применялось вышивание с оставлением фона, и «кованым» шитьем, без оставления фона, который покрывался теми же нитями, что и узор.
Техника крестом по счету нитей была двусторонней, более древней, и односторонней. Односторонним крестом вышивали очелья сорок шерстью или шелком по холсту, а также подолы рубах, передники, полотенца, подзоры красными хлопчатобумажными нитями. Техника строчки связана с предварительным выдергиванием нитей основы и утка ткани и изготовлением сетки. Выдергивали по четыре нити основы и утка, оставляя такое же количество нитей невыдернутыми; могли выдергивать по 8 и даже по 15 нитей. Нитки подрезали, всю сетку перевивали и переплетали. Орнамент преимущественно геометрический. Разновидностей строчевой вышивки множество — от простой мережки до тонких и сложных гипюров. Нити выдергивали по всей ткани либо только по фону, получалась сетка с мелкой ячеёй. Узор выполнялся в разных типах строчки: 1) стлань — заполнение выдернутых ниток неперевитой сетки, так называемой штопкой; 2) настил — наложение нитей узора в определенном направлении; 3) строчевыми разделками — разнообразным узорным заполнением; 4) обвивкой сетки нитками разных цветов; S) ткань узора оставлялась невыдернутой, а контуры узора предварительно наносились на ткань и укреплялись обводкой тамбурным швом. Последняя разновидность называлась швом по письму, или атласником по письму. Атласниками назывались белые гладевые узоры, заполнявшие контуры орнаментального рисунка в виде дорожек, городков, зигзагов, треугольников и т.д. Разновидностью белой строчки является шитье по плетеной сетке, на которую настилался узор. Вышивание по тонкой плетеной сетке (филе) вошло в моду в 80-х гг. XVIII в. Строчевая вышивка всех разновидностей по цвету бывает белая, белая с введением цветной нитки в обводку контуров рисунка, а иногда и в разделку узора. Фон может обвиваться цветной, преимущественно красной нитью, на нем выделяется белый узор, чаще всего выполненный стланью. В литературе эта техника называется перевитью. Иногда, в основном на юге, узор создавался плотной обвивкой сетки нитками разных цветов.
В XIX в. в связи с модой на гипюр развивается его ремесленное производство, частично вытесняя строчевую вышивку. Гипюр — кружево с резко очерченным узорчатым орнаментом, части которого соединены нитками, образующими большие клетки; каждая соединительная нить состоит из нескольких ниток, обвитых основой.
К несчетной технике вышивания относятся тамбур, односторонняя гладь и крест по канве. Русские названия тамбурной техники — в петлю, петелькой, в цепочку, косичкой, в плетешок — отражают характер шва, состоящего из цепочки петелек, выполняющихся с помощью крючка в пяльцах либо обычной иглой без пялец. Классический тамбурный шов производился на ткани, туго натянутой в пяльцах, подобно тамбурину (отчего произошло и название), тонким крючком петля в петлю. Тамбурная вышивка редко встречается в XVII в., чаще — в XVIII в. Вышивали тамбуром в сочетании с гладью кисейные рукава женских рубах и покрывала, а также платья в дворянских кругах. В деревне эта техника появилась преимущественно во второй половине XIX и даже в начале XX в. Наиболее характерны для нее растительные узоры, сюжеты бытового содержания; иногда узоры брали «с мороза», с покрытых изморозью стекол. Монохромная гамма (красной нитью по холсту или белой по кумачу) характерна для северных и центральных губерний, полихромия — для Верхнего Поволжья. Гладью односторонней, несчетной вышивали по рисунку. Распространилась она под влиянием дворянской усадьбы и монастыря. Белым гладевым швом украшали белье горожанки. В крестьянской вышивке XIX — начале XX вв. гладь, часто соединенную с тамбурной обводкой, выполняли разноцветным гарусом. Своеобразны владимирские швы — яркие вышивки Мстеры, выполненные цветными толстыми нитями крупными стежками с добавлением разделок. Вышивание крестиком по канве распространилось под городским влиянием во второй половине XIX — начале XX вв. Образцами служили печатные узоры, узоры с оберток мыла и т.д.
Вышивка нередко дополнялась обшивкой шнуром, аграмантом, лентами, кружевами, часто соединялась с ткаными узорами, выполненными браной или закладной техникой. Иногда вышивкой имитировали кружево, используя технику по перевити, либо двусторонний шов, вырезая края ткани зубчиками. Либо же разноцветные нити натягивали на рамку вдоль и поперек и иглой поддевали их по диагонали.

6. Набойка
Набойка, или набивка, и выбивка — способы разрисовки белых
тканей красочным орнаментом. Использовались домотканые холсты
и фабричные миткаль, коленкор, ситец. Основным инструментом
были манеры — толстые пластины сухого твердого дерева (ореха, груши)
размером 25-30 см в поперечнике, на которых вырезался орнамент,
так что фон был углубленный. Манеру погружали в особый
ящик с желеобразной краской, покрытой тканью, и накладывали на
окрашиваемую ткань, слегка ударяя сверху. Поскольку для окрашивания
даже одного куска ткани требовалось произвести множество наложений,
дерево быстро стиралось, поэтому орнамент стали делать,
вбивая в доску металлические короткие кусочки проволоки и загнутые
на конце полоски меди и некоторых сплавов. Позднее манеры стали
делать литыми. Если орнамент был многокрасочным, на одно и то
же место накладывали соответствующее число манер с различающимся
узором и окрашенных в свою краску. У набойки на белый фон накладывался
одноцветный или многоцветный орнамент. Выбивка или
выбойка отличалась от набойки тем, что вместо краски ткань покрывали
особым восковым составом, затем всю ткань окрашивали, а орнамент
под воском оставался белым. Набивное производство в крестьянской
среде сохранялось еще в XIX в., быстро заменяясь покупными
набивными ситцами фабричного производства. Большое распространение
получили также фабричные набивные платки и шали, особенно фабрики Колокольцевых.

7. Вышивка бисером и стеклярусом
Вышивка бисером бытовала преимущественно в социальной верхушке
и вошла в моду с конца XVIII в., продержавшись до 70—80-х гг.
XIX в.; вновь в незначительной мере возрождение моды на бисер,
теперь в сочетании со стеклярусом, в основном в дамских платьях,
произошло в начале XX в. В первой половине XIX в. распространение
бисерной вышивки было настолько широким, что она стала символом
дворянской усадебной культуры 20-40-х гг.
Почти весь бисер был заграничный; лишь в XVIII в. в виде опыта небольшое количество его изготовлялось на стекольной фабрике в Усть-Рудице. Рисунки также в основном были заграничными. Употреблялся венецианский и богемский бисер. Венецианский бисер, изготовленный из мягкого стекла, на соде, — круглый, а богемский — из твердого стекла, на поташе — граненый. С 30-х гг. XIX в. в употребление стал входить и штампованный металлический бисер, амальгамированный, часто с «цветами побежалости», иногда «золотой». Для одной вышивки требовалось 20-30 сортов бисера, всего же имелось до 1500 его сортов. Продавался он «бунтиками» по 10-20 нитей. Ранние вышивки XVIII в. изготовлялись вприкреп: нить с нанизанным на нее бисером прикреплялась ниткой с изнанки. В XIX в., с появлением мелкого бисера, вводится сквозная вышивка, по клеткам на канве, аналогичная известной вышивке крестом. В начале XIX в. основой для вышивки служил холст и сторона клетки равнялась двум нитям основы или утка. В конце 30-х гг. вводится бумажная канва с круглыми дырочками по размеру бисерин. Часть бумаги на вышивке закрашивалась акварелью. В конце 50-х гг. появилась нитяная канва, размер клеток увеличился вчетверо, крупнее стал бисер, крупнее стали и сами вышивки.
Датировка бисерных вышивок очень сложна. В конце XVIII — начале XIX вв. употреблялся исключительно венецианский бисер по холщовой основе; фон вышивок перламутрово-опаловый, сероватый, молочно-белый, шахматный из прозрачных и белых бисерин. В 20-х гг. появился бледно-сиреневый фон. Композиция вышивки замкнутая, поле большое, иногда с окантовкой. В 30-х гг. фон уже ярко-голубой или бирюзовый, начинают употреблять богемский бисер, в основном красный и черный, а также металлический, чаше «золотой». Одновременно появляются вышивки гризайль. В 40-х гг. идет все большее употребление граненого и металлического бисера, фон часто отсутствует и вся плоскость заполняется рисунком по бумажной канве. Во второй половине XIX в. по нитяной канве употреблялся крупный бисер, вышивка гризайль на ярко-синем фоне. В вышивках начала XX в. преобладает черный бисер и стеклярус.
Кроме вышивки, из бисера также вязали на всем протяжении XIX в. крючком и на спицах предметы сложной формы: подстаканники, чехлы на чубуки, трости, подсвечники, затем на карандаши. Употреблялось и бисерное ткачество, двусторонее, для экранов к каминам и осветительным настольным приборам. Наконец, относительное распространение получило изготовление картин из бисеринок, вдавленных в воск. Плетение из бисера употреблялось только в народном искусстве, при изготовлении шейных украшений — «гайтанов».

8. Стекло и хрусталь
Стекольное производство возникло на территории Русского
государства в домонгольскую эпоху. Главным образом это было
изготовление из цветного стекла украшений. Например, обломки
стеклянных браслетов служат для археологов показателем проникновения в
домонгольские слои. Затем, по-видимому, производство изделий из
стекла прекратилось или сократилось до минимума.
Помимо ввозившихся для нужд социальной верхушки зарубежных, в основном венецианских и богемских изделий из стекла и хрусталя, с конца XVII в. в России начинается собственное стекольное производство. Первый стекольный завод был открыт шведом Елисеем Костом (по иной версии — Юлием Койетом) под Москвой в 163S или 1639 г.; в основном он производил оконное стекло и аптекарскую посуду. Есть глухие сведения о заводе в селе Воскресенском Черноголовской волости. В 1669 г. в селе Измайлово под Москвой открыт завод «иноземцем Иваном Мартыновым». Изготовлялась, преимущественно для нужд царского двора, цветная и фигурная посуда: сулейки, стаканы крупночешуйчатые и мелкочешуйчатые, кубки, рюмки, чарки, кувшины, чернильницы, лампады, паникадила. Характерны также «потешные» кубки, перенятые из Германии. Оформились два основных направления стекольного производства: гутное, в технике свободного выдувания и доработки при повторном нагревании в печи путем лепки, и техника гравирования и гранения. Нередко изделия дополнительно расписывались «на черкасский манер».
Дальнейший толчок русское стеклоделие получило при Петре I. Возникли заводы на Воробьевых горах под Москвой, Ямбургский и Жабинский под Петербургом и др. Петр I посылал мастеров за опытом в Венецию и приглашал иностранцев. Выпускались хрустальные кубки и графины с вензелями, зеркала, оконное стекло (в Ямбурге), «цесарская и черкасская» цветная посуда, пивные кружки «на Измайловский манер». Характерно фигурное стекло: графины в виде медведей, птиц и пр. Применялась роспись эмалями, как в украинском гутном стекле. В 30-х гг. XVIII в. заводы под Петербургом прекратили существование и производство переместилось в столицу, перейдя в ведение Канцелярии от строений. Так заложена была основа одного из русских лидеров стекольного производства — Императорского стекольного завода, получившего это наименование, однако, лишь в 1792 г. В середине XVIII в. работало около 25 заводов, самые значительные — Усть-Рудицкий, Мальцова в селе Радицы Брянского уезда, Потемкина в Петербурге, Николо-Бахметьевский в Пензенской губернии (с 1763 г.). В это время сенатскими указами стекольное производство, требовавшее огромного расхода топлива, изгоняется из окрестностей столиц в глухие лесные углы. В конце XVIII — начале XIX вв. работало уже более 200 (по другим данным — около 250) заводов, среди которых лидерствовали Императорский, а также заводы Мальцевых в Дятьково Брянского уезда и в селе Гусь Владимирской губернии. Стремясь обеспечить развитие собственной промышленности, правительство запретило в начале XIX в. ввоз стекла из-за границы. В 1812 г. русской промышленностью было выпущено два с половиной миллиона бутылок и штофов, не считая аптекарских склянок, лампадного стекла и т.п. мелочей. В основном производство сосредотачивалось во Владимирской, Волынской, Петербургской, Тверской, Черниговской, Калужской губерниях. К 1914 г. имелось уже около 400 заводов и стеклянные изделия широко входили даже в деревенский обиход.
Обилие заводов делает затруднительной атрибуцию изделий из стекла, тем более, что они никак не метились, так что их можно ориентировочно относить только к определенному периоду. Так, в первой половине XVIII в. основной тип — бесцветное «белое» стекло, декорированное гранением и матовой гравировкой, чаще всего вензелями и гербами. В эту эпоху барокко в изобилии выпускается также «потешное» стекло: сосуды с заключенными в них фигурками, сосуды в форме животных почти фольклорного стиля, а также изделия из зеленого стекла. Нередки, как говорилось, характерные «шутихи», перенятые с немецких «куртофлей». В дальнейшем в XVIII в. становится характерной роспись густыми неяркими эмалевыми красками по зеленому стеклу (бутыли, штофы, кувшины), например, с изображением библейских сцен. Для эпохи классицизма типично цветное стекло, рубиновое, фиолетовое, зеленое, бирюзовое, мраморное и молочное, подражавшее фарфору с живописным декором и очень богатой палитрой. Наиболее характерным изделием становится высокий конический кубок на ножке, бесцветный, с лепным орнаментом с завитками; он может быть подцвечен золотом. В конце XVIII в. изготавливается простая посуда с росписью эмалями и пурпуром, либо более дорогое стекло с золотой росписью, а также молочное стекло и изделия из хрусталя. В это время нередко сочетание стекла с цветным поделочным камнем, иногда с бронзой. Классицизм привнес в стекольное производство гравировку не только на библейские темы, но и на античные сюжеты, а ампир дал военную тематику. Позднее стекло эпохи бидермайера украшается также живописными и гравированными жанровыми сценками.
Одной из основных форм как стеклянной, так и хрустальной посуды был штоф квадратной или прямоугольной формы с коротким горлом. Будучи основной русской единицей объема жидких тел, главным образом хлебного вина, штоф был удобен для учета, хотя прочность его была меньшей, нежели у круглых бутылок. Поскольку государство в той или иной форме сохраняло монополию на винную торговлю (монопольная система, откупная торговля от лица государства), винные штофы, а также водочные и винные бутылки (также единицы емкости) и шкалики делались «орлеными»; государственным орлом метилась также аптекарская посуда, поскольку государство пыталось контролировать производство лекарств и торговлю ими; недаром государственный герб помешался на питейных заведениях и аптеках. Впрочем, часть винной посуды декорировалась и рельефным цветочным орнаментом. Для наливок и т.п. спиртных напитков использовались и изощренные формы. Так, знаменитая «Нежинская рябина на коньяке» и другая продукция Шустова разливалась в конусовидные бутылки с насечкой на низком цилиндрическом цоколе: его грани создавали игру рубинового напитка. В конические бутылки темного стекла разливалось также пиво Трехгорного завода в Москве, петербургского завода Калинкина. В первые десятилетия XIX в. в России усвоили производство «рейнских» бутылок с длинным горлом для легких вин. Поскольку многие виноторговцы имели собственные стекольные заводы, бутылки нередко имели лепные орнаментальные надписи, украшались изображениями государственного герба и медалей, полученных в качестве наград на выставках.
При описании изделий из стекла и хрусталя нужно учитывать характер гранения. Наиболее характерна огранка «камнем», пересекающимися под прямым или почти под прямым углом прямыми гранями, так что образуются отдельные правильные призматические фигуры, напоминающие кристаллы. При шлифовании хрусталя употребляли также алмазную грань, как в ювелирном деле: камни резко отделялись друг от друга и гранились на несколько граней, образующих треугольные плоскости. Если грани тянутся во всю высоту предмета равной ширины, то это прямая грань, а если выдающиеся ребра граней закругляются, то это грань «валиками»; прямая грань желобком, с острыми ребрами, называется «райком». Стекло украшается также «ложками», круглыми или удлиненными углублениями, в которых, при их достаточной величине, может дополнительно располагаться гравировка. Употребляются также нити, пояски или бороздки, располагающиеся кольцами, звезды, листья со стеблями и т.д. При гранении хрусталя ставилась задача — добиться отбрасывания гранями лучей света, образования светящихся точек, как при огранке драгоценных камней-самоцветов.

9. Керамика
Керамика — обожженные изделия из глины. По назначению в керамике
различаются: 1) утилитарные или бытовые предметы: фарфоровая,
фаянсовая, майоликовая и гончарная посуда, различная утварь
и санитарно-технические изделия; 2) декоративная керамика:
панно, архитектурные детали, большие вазы и другие предметы для
украшения зданий, мелкая декоративная пластика или керамическая
скульптура. В этой группе можно выделить филе — многофигурные
настольные фарфоровые композиции, и дежёне — камерные вотивные сервизы,
расставленные на специальных подставках, как бы сервированные,
однако не употреблявшиеся для еды и питья.
По материалу и технологии керамические изделия подразделяются на: гончарные, майолику, фаянс и фарфор.
Гончарные изделия из красной или серой глины изготавливаются способом ручной лепки или на гончарном круге. Они имеют толстый пористый черепок. Способы обработки и украшения: покрытие и роспись ангобами — тонко растертыми, разведенными на воде белилами и цветными глинами; лощение или полировка с последующим обжигом в коптящем пламени; глазурование — покрытие порошковидными составами с большим содержанием олова, спекающимися при обжиге в прозрачные стекловидные пленки различной окраски.
Майолика — те же гончарные изделия, но с поверхностью, покрытой белой непрозрачной эмалью с росписью подглазурными или надглаэурными керамическими красками. Эмаль — та же глазурь, но непрозрачная из-за большого содержания свинца. Подглазурные краски тугоплавкие, наносятся на необожженный неглазурованный черепок, покрываются глазурью и обжигаются вместе с ней. Надглазурные краски легкоплавки, наносятся на глазурованный и обожженный черепок и снова обжигаются. Палитра подглазурных красок небогата, но весьма яркая и интенсивная по цвету; палитра надглазурных красок богатая.
Фаянс имеет легкий, тонкий, пористый и непросвечивающий черепок с глазурью белой, охристой, коричневой, с часто встречающимся цеком или краклэ — сетью мельчайших трещинок. Украшение фаянса — ручной росписью подглаэурными или надглаэурными красками или печатью с помощью наклеенных бумажек с отпечатанным надглаэурными красками рисунком; они наклеиваются водой и обжигаются вместе с изделием, бумага при этом сгорает, а изображение закрепляется. Высший сорт фаянса, опак, по структуре близок к фарфору.
Фарфор имеет плотный, твердый и просвечивающий черепок вследствие высокой температуры обжига и особой рецептуры. Особая порода глины для изготовления фарфора, каолин, предварительно многократно отмучивается, размешивается в воде, которая сливается после выпадения в осадок наиболее крупных, тяжелых частиц, пока не останется слой самой тонкой глины. Украшение фарфора самое разнообразное: от ручной росписи надглаэурными или подглазурными красками до декалькомани — подобия детских переводных картинок на бумаге, аэрографии через трафарет и перевода фотоизображений (фотокерамика); для украшения фарфора применяют также люстры — тонкие пленки радужного оттенка поверх глазуровки с последующим обжигом. При изготовлении фарфоровой скульптуры часто применялся бисквит — неглаэурованный матовый прозрачный черепок, внешне напоминающий сахар-рафинад.
Признаки различных видов керамики.
Концентрические рельефные полосы на донышке предмета говорят о ручном выполнении на гончарном круге. Рельефность (на ощупь) красочного покрытия говорит о ручной росписи. При осмотре при ярком освещении, если блики света свободно отражаются от поверхности, то использовалась подглазурная роспись, а если блик при переходе к изображению тускнеет, а на ощупь чувствуется рельеф, то употреблялась надглаэурная роспись. У фаянса меньшая белизна поверхности, но опак можно отличить лишь просматривая изделия на просвет при сильном освещении и шевеля пальцами с обратной стороны, от источника освещения: если видна тень от пальцев, то есть черепок просвечивает, то оно выполнено из фарфора.
Наиболее распространенный способ атрибуции изделий, позволяющий определить место, а иногда и более или менее точную дату изготовления — по маркам. Марки начинают появляться с самого возникновения фарфора, но обязательное клеймение изделий из фарфора и фаянса было введено в 1831 г. Известно более 600 марок, для определения которых нужно пользоваться специальной справочной литературой (например, Селиванов А.В. «Фарфор и фаянс Российской империи», 1903, доп. 1904 и 1906). Однако следует также учитывать назначение предмета, особенности формы и характер украшений, связанные с господствующим художественным стилем, технологические особенности. Нужно иметь в виду, что марки, сразу привлекающие взор, могут вводить в заблуждение: марки, свойственные определенному времени, могли употребляться и в более поэдний период; например, при переходе фабрики к новому владельцу некоторое время могли пользоваться старыми запасами «белья», пригодным для продажи иному кругу потребителей утилем и пр., а в ряде случаев владельцы малоизвестных фабрик могли пользоваться чужими марками знаменитых заводов. Иногда старые марки стачивались, вытравливались кислотами, но фрагменты их могли сохраняться на изделии. Попадаются и имеющие сугубо практическое назначение значки, цифры и пр. (например, для учета). Важны также надписи, гербы и монограммы владельцев и изготовителей, что требует знания геральдики. Особенности быта той или иной эпохи и того или иного круга потребителей, доминирующие художественные вкусы и стили искусства отражались на строении форм изделия, его назначении, характере украшений. Все это требует от музейного работника широкого круга знаний, включая гражданскую историю и историю искусства; например, сюжетные или портретные копии с известных произведений живописи позволяют датировать веши. Но нужно иметь в виду, что, например, роккаильные реминисценции имели место в фарфоре во второй половине XVIII в. и даже в начале XIX в., когда в искусстве давно уже господствовал классицизм. На фарфоре могли не только копироваться воспроизведения известных картин, но помещаться и их вольные воспроизведения. Поскольку очень часты копии старинных вещей, особенно принадлежавших знаменитым заводам, подражания и подделки, необходимо проводить эпиграфический анализ надписей, геральдический анализ марок, стилистический анализ художественного облика вещей, технологический и химический анализ материала, историко-бытовой анализ вещей.
В коллекциях музеев находится ввозившийся в больших количествах восточный и западноевропейский фарфор разных эпох (в т.ч. «китайский» и «японский» фарфор, изготовлявшийся в конце XIX — начале XX вв. в Англии для нужд моряков, посещавших открывшийся для европейцев Дальний Восток), а также отечественные изделия. В России с древности широко изготовлялись разного рода гончарные изделия, неглаэурованные, украшенные ангобами, чернолощеные и глазурованные: посуда, печные и архитектурные изразцы и т.д. Их стилистический анализ довольно затруднен, поскольку основная масса изделий в музеях принадлежит народному искусству, а оно традиционно. Преимущественно это чернолощеные и «муравленные» изделия, т.е. покрытые зеленой глазурью. В конце XVII в. появился отечественный фаянс, а с середины XVIII в. — фарфор. Наиболее ранним и знаменитым является фарфор Императорского фарфорового завода в Петербурге, созданный Виноградовым. Но ранний, виноградовский фарфор, крайне редок: с датами от 1748 по 1754 г. известно всего 9 вещей. Уже с конца XVIII в. в качестве марки использовался вензель царствующего императора. Продукция завода отличалась простотой и благородством форм, немногочисленным орнаментом в виде росписи с позолотой и необъятной широтой ассортимента, но шла в основном для нужд Двора. Из бесчисленных частных фарфоровых заводов самым известным является завод Гарднера в селе Вербилки Дмитровского уезда под Москвой. Он основан в середине XVIII в. Приобретший в 1891 г. гарднеровский завод М.С. Кузнецов продолжал использовать традиционные клейма Гарднера. Гарднеровский фарфор был настолько известен, что от цен на него вели отсчет другие торговцы. С 1812 г. начался быстрый рост фарфорово-фаянсового производства и появляется множество заводов, крупных и мелких, в том числе крестьянских, особенно в районе села Гжель под Москвой. Многие из этих заводиков были эфемерны, работая в течение нескольких лет и затем закрываясь или переходя к другим владельцам. Из крупных или проживших долгую жизнь предприятий наиболее известны завод Юсупова в селе Архангельском под Москвой (1814—1831 гг.), основанный в 1810 г. завод Ауэрбаха в селе Корчеве Тверской губернии (ныне — Конаковский завод), в 1870 г. перешедший к Кузнецову, завод Попова в селе Горбуново Дмитровского уезда, основанный в 1804 или 1806 г. Карлом Милли, перешедший к Попову в 1811 г. и работавший до 1873 г. Юсуповский завод покупал «белье» у Попова, Гарднера, ввозил из Франции, расписывая его своими мастерами. В продажу юсуповский фарфор почти не поступал. Выпускались чашки с портретами, видами исторических событий и городов, сервизы с гербами, десертные тарелки с цветами; иногда юсуповский фарфор и фаянс, особенно для собственной молочной фермы, имитировал английские изделия Веджвуда. Производство Попова было рассчитано на массовые мещанско-купеческие и крестьянские круги потребителей; изготовлялась также трактирная посуда. Поповские изделия отличались яркой росписью с цветочным орнаментом, с крупными розанами в народном вкусе. Для Попова характерно также и изготовление мелкой фарфоровой пластики — «русских типов» с сильным юмористическим оттенком. К концу XIX в. множество заводов оказалось скуплено М.С. и И.Е. Кузнецовыми, выпускавшими посуду на все вкусы, в том числе в огромном количестве и для невзыскательного мещанско-крестьянского потребителя.
В группе керамики видное место в муэейных коллекциях и экспозициях занимают изразцы. В XV в. для украшения построек декоративными поясами и фризами изготавливались терракотовые, т.е. цвета обожженной красной глины, плиты, имитировавшие резьбу по камню. В XVII в. на основе этого производства развилось изготовление терракотовых изразцов, как печных, так и для украшения каменных построек. Во второй половине XVII в. красные изразцы были вытеснены муравленными, т.е. покрытыми зеленой свинцовой глазурью, и многоцветными изразцами. Они шли на наружный декор церквей и облицовку печей. Изображения были самые разнообразные: растительный орнамент, военные сцены, мифологические существа. Муравленные изразцы были рельефные, многоцветные — и гладкие, и рельефные. Производство полихромных изразцов началось во второй половине XVII в. в селе Богородицыне (г. Валдай). Сюда были приглашены белорусские мастера, знавшие секрет изготовления эмалей четырех цветов: белого, желтого, бирюзово-зеленого и синего. Такие изразцы назывались ценинными или фряжскими. Это производство продолжилось в Ново-Иерусалимском монастыре под Москвой, а затем и в Москве, в Гончарной слободе в Заяузье. Наиболее известным мастером ценинного дела был Степан Полубес, создавший особый тип орнамента полихромных изразцов — «павлиний глаз». В XVIII в. изразцы чаще стали использоваться в облицовке печей, нежели в декорировке построек. В первой четверти XVIII в. появилось изготовление гладких живописных изразцов «на голландский манер», с синей росписью по белому полю. Их производство началось в Петербурге, затем перейдя в Москву. Сюжеты росписи были самобытными, национальными; это могли быть бытовые сцены или фигуры людей, животных, мифологических существ, различные символы и эмблемы, часто с поясняющими надписями. Такие изразцы бытовали очень долго, особенно в провинции. Во второй четверти XVIII в. стало развиваться балахнинское и устюжское изразцовое производство, в обоих случаях изготовлялись многоцветные клейма с рельефным рисунком, с растительным орнаментом или сюжетной росписью. Появились так называемые ковровые и раппортные изразцы. На ковровых сюжеты помещались в обрамлениях, которые соединялись с рамками соседних изразцов и образовывали ковровые композиции. В paппортных сюжеты повторялись на двух-трех изразцах с надписями. Во второй половине XVIII в. появились печи в виде архитектурных сооружений с сюжетными клеймами, под влиянием барокко. К концу столетия интенсивность цвета стала уменьшаться, упрощаясь до синего на белом поле; сюжет — вазы с цветами, ветви растений. Постепенно наметился переход к изготовлению дешевых массовых изделий. В XIX в. появились многоцветные сюжетные изразцы с пояснительными надписями, вскоре уступившие место изделиям с простейшим орнаментом. От ярких многоцветных мотивов, часто с рельефом, рисунок вновь стал упрощаться до одноцветной синей росписи по белому фону. Изразцовое производство от кустарного все более переходило к фабричному. В начале XX в. в соответствии с эстетикой стиля модерн вновь вспыхнул интерес к облицовке зданий плоскими многоцветными изразцами, точнее, кафелем, или различным вставкам и фризам из него. В это время по рисункам известных художников (например, М. Врубеля) создаются великолепные огромные панно и фризы. Тона этих многоцветных изделий приглушенные, разбеленные, линии орнамента (в основном маки, орхидеи, ирисы) прихотливо извивающиеся, слегка увядшие.
Изразец состоит из прямоугольной пластины, наружная сторона которой покрыта глазурью, румпы, образующей коробку, в стенках которой имеются два отверстия для закрепления изразцов путем закладки проволоки в толщу кладки и скрепления их друг с другом. Форма и назначение изразцов различны: стенные или прямые, для облицовки плоскостей, угловые, для облицовки углов, и фасонные — для облицовки выступающих частей. Кроме того, в зависимости от формы, изразцы называются закладкой или цокольным, уступом, гладким или лицевым, полочным, выступающим, карнизным, венцовым. Обычно изразцы клеймились. Маркировка наносилась заостренным стержнем на сырую поверхность задней стенки изразца до его обжига; это было необходимо, поскольку изготавливались цельные комплекты изразцов, как печных, так и облицовочных.
Хотя литература по истории изразцов многочисленна, в основном она имеет поверхностный характер. Для атрибуционной работы поздних керамических изделий наиболее полезным может оказаться единственное пособие Салтыкова А.Б. Русская керамика. Пособие по определению памятников материальной культуры XVIII — начала XIX вв. — М., 1952. Интерес представляет также альбом Маспиха С.А. Русское изразцовое искусство XV-XIX вв. — М., 1983.

10. Глиняная игрушка
Особой чертой русской народной культуры было бытование детской
игрушки. Русские мемуары первой половины XIX в., принадлежавшие
представителям социальной верхушки, нередко прямо говорят об
отсутствии игрушек у детей, либо умалчивают о них: в понятиях
людей того времени ребенок был просто взрослым человеком маленького
роста, к которому прилагались те же требования, что и к взрослым
людям, и напротив, хорошо известна народная детская игрушка;
например, создание игрушечного производства в одном из важнейших
центров этой отрасли, Троице-Сергиевом посаде, легенда приписывает
преподобному Сергию Радонежскому.
Более того: при полном отсутствии детской педагогики, народная детская игрушка оказалась абсолютно соответствующей детскому восприятию мира. Ребенок творит мир «из себя» и самый незначительный повод, в виде, например, грубо оструганной чурочки, напоминающей куклу или коня, дает ему широкие возможности, широкое поле для домысливания, «достраивания» мира. Часто законченная игрушка, до мелочей воспроизводящая тот или иной элемент окружающего мира, быстро надоедает ребенку, и он забрасывает ее или ломает, чтобы узнать, что у нее внутри. И напротив, самая «примитивная», иногда самодельная игрушка с ее упрощенными, обобщенными формами становится самой любимой: обобщенность форм, отсутствие деталей позволяет ребенку «достраивать» ее в воображении под его потребности. Очевидно, эта специфика детского восприятия инстинктивно была уловлена крестьянином. Народная игрушка, деревянная или глиняная, отличается крайней обобщенностью форм и условностью. В то же время она очень яркая, иногда до нелепости (может ли быть в сознании взрослого что-либо нелепее коня, украшенного растительным орнаментом?).
В принципе, говорить о крестьянском игрушечном производстве до конца XIX в. неправильно. Производство целенаправленно, а изготовление игрушек в народе, даже на рынок, было попутным. Оно сопутствовало какому-либо основному ремесленному производству и находилось в руках детей, подростков, либо женщин, стариков, игравших в этом производстве вспомогательную роль или им не занимавшихся совсем. Например, там, где взрослые мужчины занимались изготовлением мебели, сундуков или иным деревообделочным ремеслом, их сыновья изготовляли игрушечную мебель, приучаясь к ремеслу, а женщины расписывали ее; в центрах производства деревянной посуды мальчики точили игрушечную посудку; в центрах гончарного производства взрослые мужчины занимались изготовлением «настоящей» посуды, а дети, женщины и старики из остатков глины лепили свистульки или детскую игрушечную посуду. Это — результат безотходности любого крестьянского ремесла. При изготовлении крупных столярных изделий оставалось много обрезков покупной древесины, а каждая копейка должна была вернуться в хозяйство. При обжиге крупных гончарных изделий в горне между ними оставалось много пустот и покупное топливо расходовалось понапрасну; лошадь везла на рынок горшки и корчаги, в которых и между которыми было много места, т.е. она везла фактически полупустой воз, работала вполсилы, а ведь ее приходилось кормить. Поэтому в горн в пустоты ставились мелкие изделия, вроде свистулек, которые затем рассовывались в солому в горшки и между ними. Пусть они стоили по грошу, все же за ярмарочный день в хозяйство возвращалось 20—30 копеек. В результате повсюду, где были залежи горшечной глины и существовало гончарное производство, имелись и центры игрушечного производства: в каждой губернии, чуть ли не в каждом уезде. Эти центры (а следовательно, и местные «школы») были эфемерны, спонтанно возникали и умирали, иногда существуя короткое время. Поскольку в XX в. крестьянское ремесленное производство практически погибло (купить ныне глиняный горшок труднее, нежели норковую шубу), до нас дошли иной раз только глухие сведения, что в той или иной деревне в той или иной семье лепили игрушки, иногда дошли одна-две разбитых игрушки, иногда же благодаря коллекционерам или энтузиастам, происходит возрождение заглохших центров. Но есть и несколько стабильно существующих центров, даже фабрик, как, например, знаменитая фабрика дымковской игрушки возле г. Вятка. Не следует думать, что изготавливающиеся нынче глиняные игрушки абсолютно идентичны тем, что лепились и расписывались 100 лет назад. Хотя народное творчество традиционалистское по своему характеру, все же это творчество, и каждый мастер, каждое поколение вносит что-то свое, индивидуальное. Там же, где за возрождение игрушки или иного производства берутся люди образованные, а тем более профессиональные художники, эта роль индивидуальности еще больше. Древняя дымковская игрушка, возникшая чуть ли не в XV в. и описывавшаяся в печати уже в XIX в., мало похожа на игрушку современную. Заглохший в 20-х гг. XX в. промысел был возрожден профессиональной художницей Е.И. Косс-Деньшиной, привнесшей в игрушку свою индивидуальность. Это, однако, отнюдь не обесценивает игрушку: одинаково ценна и старинная игрушка, о которой мы знаем очень мало, и современная.
Народная игрушка очень архаична и несет на себе отпечаток древнейших народных верований. Например, среди каргопольских игрушек хорошо известен «Полкан»: античный кентавр, правда, приобретший окладистую бороду и наряженный в крестьянскую шляпу-гречневик, а заодно и украшенный древними солярными символами. Как пришел кентавр из солнечной Древней Греции на сумрачный русский Север — никто не объяснит. Знаменитая Филимоновская игрушка (Тульская область) с ее специфически-вытянутыми формами и раскраской в виде узких полосок, как две капли воды похожа на античную беотийскую игрушку IV в. до н.э. Конечно, не древние беотийцы принесли свое художественное мышление на тульскую землю, и тем более не тульские крестьянки побывали в древней Беотии: просто народное мышление более или менее схоже, несмотря на разные эпохи и регионы. Недаром и глиняная игрушка разных регионов и школ имеет много общего в форме и росписи.
Описание местных, существующих ныне школ народной глиняной игрушки, представленных в музеях или частных коллекциях, начнем с наиболее популярной Дымковской игрушки. Это изображения женских фигур в пышных платьях с воланами, в шляпках, кокошниках или простых по форме народных головных уборах, а также коней, оленей и птиц с пышными хвостами — стилизованных павлинов или индюков. Роспись по белому полю желтыми, красными и синими кольцами, кругами, мелкими пятнами, широкими прямыми и узкими извилистыми полосками с частичной сплошной окраской деталей фигур. Для «дымки», как, впрочем, и некоторых других местных школ, характерна наклейка на головные уборы и уши животных небольших квадратиков сусального золота.
Каргопольская игрушка характеризуется сплошной окраской человеческих, в основном женских фигур, всадников, коней, медведей, уже упомянутых «Полканов», птиц, окрашенных преимущественно в зеленый и красный, реже коричневый цвета с незначительным по объему простым орнаментом, нередко — солярными знаками в виде разделенных крестом кругов с точками в секторах.
Тульская Филимоновская игрушка отличается значительной вытянутостью форм: вытянуты человеческие фигуры, очень длинные шеи у коров и баранов; иногда встречаются несложные композиции: женщина с коровой, женщина, несущая петуха, обнимающаяся парочка. Роспись по белому фону чередующимися желтой, красной, реже зеленой и синей узкими полосками, охватывающими шеи, туловища, ноги кольцом; в человеческих фигурах отдельные фрагменты могут иметь сплошную красную окраску и легкий орнамент сеткой, напоминающий вышивку крестом. Это и грушки-свистульки с двумя ладами.
Некогда в Тульской губернии производилась так называемая Городская игрушка в прилегающих к городу слободах. Это кавалеры, а преимущественно дамы в городских нарядах, с зонтиками от солнца; фигуры также слегка вытянуты, окраска костюмов в светло-голубой тон с редкими темно-голубыми и черными полосками.
Довольно архаичны по форме и орнаментации и чем-то схожи с филимоновскими Сапожковские игрушки Рязанской области. Это женские и мужские, слегка вытянутые фигуры, по естественному цвету светлой глины расписанные чередующимися вертикальными красными и зелеными полосками; женская фигура может иметь под мышкой петуха-свистульку.
Хорошо известная Абашевская игрушка-свистулька Пензенской области представляет собой небольших баранов, коней, коров или всадников, сплошь покрытых красной, лиловой или светло-фиолетовой эмалевой краской с сусальным золотом или серебром (сейчас заменено окраской алюминиевой или бронзовой краской) на ушах, рогах, головных уборах.
Близка по форме к абашевской игрушке Романовская или Липецкая, но роспись здесь выполняется по светлой глине аналиновыми красками и «серебром», красными и синими полосками на спине, со сплошной окраской голов.
Основная масса глиняных игрушек-свистулек представляет собой птиц (петухов, уток) или коней примерно обшей формы: сбоку, спереди и сверху они в плане представляют неправильный треугольник, тулово у птиц и животных практически одинаково, различается только моделировка головы.
Такова, например, Плешковская игрушка Орловской области. В основном это покрытые светлой охристой поливой птички с росписью красными, желтыми, синими, зелеными пятнышками «тычком»; встречаются и женские фигурки.
Городецкая игрушка Нижегородской области также поливная, но черная или красно-коричневая с росписью эмалью мазками произвольной формы, красными, желтыми, зеленовато-голубыми, причем часто употребляется «серебро».
Мглинская игрушка Брянской области светло-коричневого золотистого цвета расписывается незначительными полосками, смесью ультрамарина с белилами.
Широко известна Кожлинская игрушка Курской области. Формы ее могут быть очень сложны. Часто это всадники, иногда фантастические, с трехголовыми или двухголовыми конями, с восседающими на них, иногда в два яруса, птицами. Роспись по белому фону неправильной формы красными, зелеными, синими пятнышками. Могут быть и женские фигуры с целой гроздью детей на руках или просто прилепившимися к подолу.
По сложности формы с кожлинской игрушкой конкурирует Хлудневская, Калужской области. Это «сопелки», т.е. свистульки, и «грематушки» — куклы, в юбки которых заделан глиняный шарик. Сопелки представляют собой сложные многофигурные группы птичек, всадников с птичками и т.п. Роспись по чистой светлой глине полосками, чаще волнистыми: красными, зелеными, синими, перемежающимися с белыми, иногда мелкой неправильной сеткой.
В деревне Петровское Костромской области бытует так называемая Сусанинская светло- или темно-коричневая поливная игрушка без росписи, преимущественно птички, реже женские фигурки. Примерно такова же Лухская игрушка Ивановской области. Это все малоизвестные изделия, как и так называемая Череповецкая (точнее — из деревни Бабурино Ярославской области) игрушка в виде коричневых поливных птичек, на боках которых ногтем процарапаны перышки. Редки Воронежские игрушки в форме массивных бочкообразных, почти нерасчлененных поливных кукол с упертыми в бока руками, напоминающими ручки кувшинов; их роспись незначительна по объему, в виде полосок алюминиевой «серебрянки». Плохо известны и Белгородские бараны и птички светлой глины с покрытыми алюминиевой «серебрянкой» головками. После войны в одной из деревень Кировской области производились довольно натуралистичные петушки-свистульки, расписанные эмалевыми красками, но промысел давно погиб. Вполне возможно, что существуют или недавно существовали и другие центры производства глиняной игрушки, но ни из немногочисленной литературы, ни коллекционерам они неизвестны.

11. Изделия из металла
В группу памятников материальной культуры, объединенных понятием
«металл», входят орудия производства, сельскохозяйственный
инвентарь, точные приборы, домашняя утварь, осветительные приборы,
принадлежности письменного стола, предметы декоративного
убранства (дверные и оконные приборы, украшения мебели, декоративные
вазы и скульптура), предметы культового назначения (кадила, оклады
икон, дискосы, потиры и т.д.); оружие в эту группу не
включается. В данном разделе рассматриваются только некоторые
подгруппы памятников из металла.
Материал предмета нередко определяет его бытование в той или иной социальной среде. Так, группа предметов, объединяющихся понятием «бронза» или «серебро», обычно включает высокохудожественную продукцию, характерную для быта социальных верхов. Предметы из меди, железа, олова более характерны для средних и низших социальных слоев.
Художественные изделия из металла группируются по месту и характеру производства. Более широкая группа относится к изделиям городских мастеров и предприятий; это изделия художественной промышленности. Народные кустарные или промышленные изделия из меди, железа, в основном имеют утилитарное назначение: это светцы, дверные петли и ручки, домашняя утварь и пр. Произведения крестьянского творчества наиболее сложно датировать: они живут долго, а форма их традиционна. Особую группу изделий из металла в сочетании с другими материалами представлют произведения ювелирного искусства, которые подробно будут рассмотрены в другом разделе. Изделия из драгоценных металлов и камней имеют клейма пробирных мастеров, иногда дату, место изготовления, имя мастера; это относится и к художественной бронзе и серебру. Распространенные в народе украшения из меди, латуни, низкопробного серебра, олова, могут быть определены лишь по стилистическим признакам. Трудноопределимы орудия производства, поскольку технический прогресс наиболее интенсивно стирает индивидуальные особенности местных производств.
В связи с большим количеством разновидностей изделий из металла, необходимо хорошо знать историю материальной культуры, быта и производства для определения назначения изделия. Следующим этапом должно быть определение стиля, что затрудняется применительно к периоду с 30-х гг. XIX в. таким явлением, как эклектика, употребление «исторических стилей». В этом случае необходимо изучение второстепенных деталей. Здесь может играть роль технология, тщательность исполнения, характер нарезки винтов, четкость чеканки и т.д. Помимо разнообразных, характерных для каждого музейного предмета источников сведений о происхождении, для металлических изделий важное значение имеют сведения из адресных книг, каталогов магазинов и выставок, рекламы, обзоров выставок в прессе и пр.; это также статистические справочники по промышленности и кустарным промыслам. Впрочем, все это характерно и для изделий из стекла, керамики.
Бронза.
По своим художественным качествам бронзовые изделия всегда выше, нежели подобного же назначения изделия из меди. Например, подсвечники из золоченой бронзы обычно литые, а их прочеканка чище, медные нередко штампованные, а чеканка небрежная. В группе «бронза» предметы должны быть сгруппированы по назначению:
1) осветительные приборы по типам (люстры, канделябры, подсвечники, бра и т.д.);
2) письменные приборы и настольные украшения;
3) предметы декоративного назначения — вазы, скульптура;
4) элементы украшения мебели и интерьера — накладки, ручки, замки и пр.
Основная часть художественных изделий из бронзы XVIII в. — иностранного, преимущественно французского производства. Первое русское предприятие художественной бронзы основано в 1770-х гг. в Петербурге и исполняло лишь уникальные дворцовые заказы. Это главным образом осветительные приборы, вазы и архитектурные детали по рисункам архитекторов Фельтена, Ринальди, Кваренги, Воронихина, Росси, Стасова. В начале XIX в. в Петербурге появляется несколько частных производителей бронзы для продажи, преимущественно приехавшие в Россию французы, среди которых наиболее известен Ф. Шопен. Крупнейшие французские бронзовщики Гутьер, Томир большей частью ставили на нижней части изделий свои клейма. Петербургские бронзовщики, стремясь выдать свои изделия за французские, клейм обычно не ставили. В этом отношении отличались москвичи, как правило, ставившие клейма; так, в 1820-30-х гг. москвич Самарин ставил клеймо «М Я С» («Мастер Яков Самарин»). Определение бронзы первой четверти XIX в. облегчается ее характерными особенностями. В формах и орнаментике преобладает сухая строгость позднего классицизма, широкое использование архитектурных мотивов: бронза как бы сливается с интерьерами. Мода на бронзу достигает такого размаха, что некоторые изделия из других материалов, например, художественный фарфор, сплошь золотятся, имитируя бронзу; под бронзу изготовляются и веши из залевкашенного дерева, из папье-маше. Это подражание металлу продолжается почти все первые 40 лет XIX в.
В 30—40-е гг. определяется тяготение к декоративной пышности, приведшее к распаду «большого стиля». Появляются псевдобарокко, псевдорококо, даже псевдоготика (в эпоху подлинной готики бронза была малоупотребима), формируется «русский стиль». Русский стиль во второй трети столетия в основном проявляется в церковных заказах. Медная и бронзовая утварь 30-50-х гг. была воспроизведением образцов XVII в., подправленных линейкой и циркулем, а затем по этим образцам весь XIX в. московские и петербургские бронзовщики изготовляли церковные предметы. Созданные академиком Ф. Солнцевым рисунки служили основными образцами и для художественно-промышленных учебных заведений и предприятий столиц и провинции. При этом русское направление более характерно для москвичей, петербуржцы же продолжают тяготеть к французским образцам. Именно в Москве появились первые реалистические крестьянские мотивы. Новая народная тематика в основном распространилась на мелкую пластику.
Развитие техники и промышленности к середине XIX в. стало влиять на характер изделий. До 1830-х гг. господствовало свечное освещение, с 1835 г. начинает внедряться масляное, а затем и газовое освещение. Это повлияло на форму люстры и производных от нее приборов. Сама конструкция лампы не оставляла места для художественного оформления, а вместо бронзы начинает употребляться листовая медь. На смену канделябрам и жирандолям приходит настольная лампа, число ламп с бронзовыми подставками быстро сокращается, фарфор и фаянс начинают вытеснять бронзу. Стремление удешевить производство при расширении круга покупателей ведет также к замене бронзы дешевыми сплавами; отливка по восковым моделям в песке заменяется отливкой отдельными частями по постоянным моделям в специальных металлических разъемных формах с последующей сборкой на винтах и начинает применяться штамповка и открытая в 1837 г. гальванопластика; «огненное» золочение с помощью ртути заменяется окраской и тонированием, «канфаренье», наносившееся поверх золочения и придававшее поверхности матовый фон, исполняется небрежно, с пропусками. Эклектичность доходит до того, что отдельно изготовленные детали могут исполняться в разных стилях.
В связи с сокращением крупных дворцовых заказов на бронзу шло массовое разорение или перепрофилирование мелких предприятий. В Петербурге утверждаются крупные, хорошо оснащенные фабрики Ф. Шопена, Морана, Верфеля, А. Соколова, ламповые заведения Штанге и Кумберга, изготовлявшие в основном бронзовые подставки для ламп. В Москве, где производство бронзы вообще было развито слабее, многие бронзовщики начинают заниматься серебром. Наиболее известными в Москве были заведение Постникова, изготовлявшее серебряные и бронзовые изделия, такое же предприятие А. Соколова, мастерские и магазины Шнейдера и братьев Вишневских.
Во второй половине XIX в. основной продукцией Франции, влиявшей на русское производство и ввозившей в Россию свои изделия, стали статуэтки на темы влюбленных парочек, охотников, стрелков, аллегорические фигуры, олицетворявшие науку, искусства, торговлю. В связи со строительством Суэцкого канала пробудился интерес к Египту, странам Востока, а продолжение и публикации раскопок Помпеи и Грекуланума усиливает интерес к античности, особенно в Италии, венская же школа, поставлявшая также изделия в Россию, специализируется на мелкой бытовой пластике в стиле бидермайер. Отзвуки всего этого заметны в России; так, на выставке 1861 г. большое место в бронзе заняли экзотические мотивы. Но все же наиболее распространенными остаются гостиные (люстра, пара бра и пара канделябров) и каминные (пара канделябров и часы) гарнитуры из золоченой бронзы, подражавшие рококо XVIII в. Становится заметным стремление к натурализму: попытки подражать шероховатости древесной коры, наплывам сучков, обломам ветвей и пр. В то же время грубая конструкция маскируется декоративными накладками, бронза большей частью не золотится, а тонируется в темные тона, маскируюшие небрежную отделку. В Москве и провинции, отказавшихся от петербургских подражаний Западу, продолжается копирование образцов XVII в., переходящих в гостиные и столовые. Появляется бронза в ропетовском стиле: избушки на курьих ножках для календарей, часов и т.п. В металл переносятся узоры деревянной резьбы. Масса низкосортной рыночной бронзы наводнила рынок. На рубеже XIX—XX вв. в Россию с Запада проникают изделия в стиле модерн. В это время резко сокращается производство бронзы и начинают широко употребляться штамповка из меди и латуни. Наряду с осветительными приборами и корпусами каминных часов в искусстве бронзы большое место занимала мелкая декоративная скульптура. В XVIII в. отливались или копии с иностранных образцов, или произведения по моделям крупных русских скульпторов. Преимущественно это были небольшие бюсты исторических деятелей, писателей, мыслителей для книжных шкафов, консолей. Большое распространение скульптура получила с начала XIX в., особенно в Петербурге. В бронзе очень рано, преимущественно с 1812 г., нашла применение национальная тематика, условно решавшаяся в стиле классицизма. Наиболее распространены были фигурки солдат, казаков, ополченцев — как самостоятельные украшения, так и для украшения чернильных приборов и пресс-папье; тогда же появились и крестьянские мотивы. С 20-х гг. выпускаются каминные часы с группой Минина и Пожарского И. Мартоса, с этого же времени начинается бесконечное повторение в разных материалах (гипс, чугун), в т.ч. и в бронзе серии медальонов на темы 1812 г., созданных Ф.Толстым. С 1849 г. стала повторяться серия выпущенных Ф. Шопеном бронзовых бюстов русских князей и царей, от Рюрика до Павла I (64 бюста). Начинают также воспроизводить небольшие модели Царь-колокола, Царь-пушки, бородинского памятника и т.д. на мраморных или бронзовых подставках; иногда их выпускали штампованными из меди в виде рельефных плакеток. В 1860-х гг. Ф. Шопен и А.Соколов начинают отливать анималистическую скульптуру; так, заведение Соколова в большом количестве выпускало письменные и осветительные приборы с медведями, зайцами, волками. На большинстве изделий были фабричные марки и подписи скульпторов, но в 70-х гг. Ф. Шопен начинает серийную отливку скульптурок, ставя свое имя рядом с именем скульптора или даже опуская его.
В народном ремесле литая бронза или медь занимает незначительное место. Необходимо отметить только многочисленные литые ажурные бляхи русских коновалов с фигурами лошади и человека. Но они представляют не художественный, а чисто бытовой интерес.
Серебро.
Производство предметов материальной культуры из серебра как благородного ценного металла, относится преимущественно к ювелирному делу и с технической точки зрения будет рассмотрено в соответствующем разделе. Серебряное дело в России имеет глубокие корни, однако до начала XVIII в. широкого размаха не имело ввиду отсутствия в стране собственных серебряных копей: все серебро, в том числе шедшее на чеканку монеты, было ввозным. В дальнейшем, с развитием горнорудного дела, в России стало добываться огромное количество серебра и к концу XIX в. изделия из него стали доступны даже небогатым людям; так, в мещанстве или крестьянстве обручальные кольца или перстеньки, особенно из низкопробного металла, были весьма распространены. Но еще в течение почти всего XVIII в. серебряные изделия в быту даже богатых дворян были немногочисленными и пользование ими было прерогативой Двора и верхушки дворянства. Из серебра в широких размерах кустарным способом производились оклады для икон, раки для мощей святых, предметы церковного обихода (дискосы, потиры, лжицы для причащения, дарохранительницы, напрестольные, наперсные и нательные кресты), а также серебряная посуда, табакерки, портсигары и карманные часы; широко употреблялось оно для украшения холодного и огнестрельного оружия. Нередко серебро дополнительно золотилось, а также украшалось чернью или обрабатывалось в иных ювелирных техниках. Существовал даже крупный центр кустарного производства мелких изделий из серебра (колец, серег, крестов, цепочек для часов, табакерок, солонок и т.п.) — село Красное Костромской губернии.
В стилистическом отношении практически на всем протяжении XIX в. сохранялись сильнейшие реминисценции барокко и рококо. С середины XIX в. сначала в церковный обиход, а затем и в быт входят серебряные вещи в «русском стиле», имитировавшие старинные братины, ендовы, ковши, чарки и украшавшиеся орнаментом, взятым преимущественно с рукописных книг; предварительно выполненный с помощью линейки и циркуля рисунок отличался неприятной сухостью, мертвенностью: старинные мастера работали «на глазок» и небольшие неправильности рисунка, отсутствие абсолютной симметрии оживляли работы. «Русские» изделия чрезвычайно часто украшаются полихромной эмалью по скани, резьбе, чеканке, густым ковром покрывавшей всю площадь. Особенно характерно применение «русского стиля» для Москвы: петербургские серебряники по-прежнему ориентируются на традиции барокко и рококо. В начале XX в. в серебряном деле начинает употребляться стиль модерн, где большие матовые плоскости серебра контрастируют со своеобразным резным орнаментом, иногда украшенным чернью. Изделия из серебра хорошо атрибутируются, поскольку они проходили пробирный контроль и метились клеймами: даже в с. Красном был пробирный мастер.
Чугун.
Большой спрос на бронзу приводит во второй половине XIX в. к массовой отливке мелкой декоративной пластики из чугуна, почти исключительно на Урале — в Каслях, Кусе, Кушве; наиболее прославленными в этом отношении были каслинские произведения. Преимущественно это были повторения в чугуне бронзовых изделий, созданных крупными мастерами, например, Е.А. Лансере («Тройка», «Джигитующий казак» и т.д.). Но нередко для художественного чугунного литья создавались и специальные модели, отливки по которым выпускаются до сих пор: «Дон Кихот», черт, показывающий нос и т.д. Повторения камерной скульптуры всегда имели указание на имя мастера или название завода, либо мастера и год отливки. Однако преимущественно русский литой чугун употреблялся в архитектуре малых форм: оградах, решетках балконов, ворот, фонарных столбах, садовой мебели, каминной облицовке. В этой области были достигнуты огромные успехи уральскими, тульскими, олонецкими мастерами, но все это относится уже к иной сфере истории.
Кованое н просечное железо.
Помимо решеток ворот, оград, балконов, относящихся к искусству архитектуры, русское кованое железо занимает некоторое место в истории материальной, преимущественно народной культуры. Это светцы для лучины, а также ручки и накладные петли к дверям, сундукам, укладкам; петли дорабатывались путем сквозной просечки. Определить место и время их изготовления по характерным чертам практически невозможно: они имеют весьма традиционный внешний облик, отдаленно напоминающие условные стебли и листья растений с симметрично расположенными завитками-отщепами. Просечное железо, точнее, жесть в крестьянском и даже мещанском быту использовалось очень редко; это была прерогатива зажиточных слоев населения, украшавших свои жилища фигурными дымниками на печных трубах, флюгерами, навершиями-воронками водосточных труб. Такого рода просечное железо также широко употреблялось на церквах и общественных зданиях. Орнамент его мелочный, невыразительный, что, вероятно, можно объяснить поздним происхождением дошедших до нас изделий: как и к поздней пропильной резьбе наличников и подзоров крестьянских изб, так и к позднему просечному железу приложили руку профессиональные художники невысокого уровня, создававшие специальные альбомы для кустарей. Этот род декоративного искусства относится более к архитектуре, а не к материальной культуре.
Самовары.
Одной из разновидностей художественного металла можно считать самовары разного типа. Сюда относятся собственно самовары, т.е. сосуды с проходящей внутри трубой и поддувальцем, в которых кипятили воду для приготовления чая, сбитенники, самовары-кофейники и самовары-кухни для приготовления пищи; разновидностью самовара является дорожный самовар. Сбитенник представлял собой большой чайник с проходящей внутри трубой, куда для согревания готового напитка накладывали горячие угли. Самовар-кофейник имел специальное устройство для варки кофе: внутри помещалась вынимавшаяся металлическая рамка с натянутым на нее холщовым мешочком для кофе. Самовар-кухня имел вид широкой и довольно глубокой чаши с трубой в центре. Внутри имелось несколько отделений для одновременного приготовления нескольких кушаний; одно из них имело кран и использовалось для кипячения воды. Каждое отделение имело отдельную крышку, а сверху все они вместе закрывались общей широкой крышкой. Кушанья доставались особой формы черпаками. Такие самовары-кухни обычно брали с собой в дорогу. Дорожные самовары были четырехгранные для укладки в погребец и имели съемные ножки.
Дата начала самоварного производства в России неизвестна. Существует мнение, что родоначальником и едва ли не единственным центром этого производства была Тула. Это неверно. Первая самоварная фабрика в Туле была основана купцом Н. Лисицыным в 1778 г., хотя, разумеется, мелкое кустарное производство существовало и ранее. Вообще же первые сведения о крупном самоварном производстве относятся к 60-м гг. XVIII в., когда самовары стали делать на московской фабрике А. Шмакова и некоторых уральских заводах. В начале XIX в. самым крупным предприятием был медный завод П. Силина в Московской губернии, вырабатывавший в год около трех тысяч самоваров. В Туле в это время было уже 4 довольно крупных предприятия Ломова, Лисицыных и Черникова, но все они вместе взятые изготовляли около двух тысяч изделий. Существовало и множество мелких заведений, выпускавших как готовые изделия, так и детали для самоваров.
Основным материалом была листовая медь. Широко применялись также медные сплавы, например, томпак, а также низкопробное серебро, как листовое, для изготовления самого тулова, так и литое, и чеканное, для деталей и орнамента. При изготовлении изделия производилось 10-12 операции, главной из которых была «наводка» — придание определенной формы корпусу самовара. Подготовленные заготовки формовались на наковальнях разной формы — «кобылинах». За месяц мастер мог изготовить до десяти простых или 4-5 фигурных самоваров. Формы и отделка самоваров отличались большим разнообразием. Так, широко употреблялась разделка тулова крупными вертикальными «ложками». Нередко тулово имело форму двух приплюснутых чаш, разделенных широким вогнутым поясом, либо же такой пояс помещался на тулове яйцевидной формы. Само тулово богато украшалось гравировкой и чеканными поясами-накладками растительного орнамента. Краны нередко отливались в форме дельфинов с загнутыми хвостами, фигурными были ручки и довольно высокие прорезные ножки. В начале XIX в. распространение получили вазообразные самовары строгого силуэта, напоминавшие античные амфоры. В это время в моде были пояски с мелким геометрическим орнаментом, а сужающаяся нижняя часть и крышка покрывались выпуклыми горизонтальными поясками. Становятся известными и самовары в форме лежащего бочонка, В середине XIX в. модной отделкой стали пышные накладные бордюры из рельефных цветов, листьев и раковин, имитирующие стиль рококо, с ручками в виде усложненных завитков. Одновременно с псевдобарокко заметно влияние и ложнорусского стиля. Например, известен самовар в форме петуха, с ножками, отлитыми в виде двух петушиных лап и хвоста и с краником в форме головы петуха, украшенный рельефными надписями вязью с русскими поговорками. В начале XX в. господство стиля модерн вызвало появление изящных самоваров с вытянутыми формами. Такие самовары стоили от 30—35 до 100 рублей. Массовая дешевая самоварная продукция, стоявшая от трех рублей и выше (она продавалась оптовикам на вес, по 15 рублей пуд), была значительно проще. Стремление к массовому производству во второй половине XIX в. вызвало упрощение форм и отделки, их стандартизацию. К концу века в производство прочно вошел обыкновенный цилиндрический самовар-«банка». Началось никелирование медных самоваров — как бы имитация серебра. Но до XX в., а практически до сегодняшнего дня, можно увидеть барочные реминисценции, особенно в ручках и кранах. Заслуживает внимания терминология самовара. Основная часть самовара, его корпус, или тулово, носит название кувшина. Под сужающимся кувшином располагается цилиндрическая шейка с пробитыми в ней отверстиями-поддувальцами. Изнутри выход из кувшина в шейку закрыт решеткой, впаянной в трубу. Шейка опирается на фигурный поддон с ножками. Вверху с боков к кувшину припаяны ручки, а в нижней части через орнаментальную личину проходит кран. Вращающаяся в кране вертикальная цилиндрическая деталь с отверстием называется ключом, а в нее впаяна фигурная ветка, за которую открывают и закрывают кран. Сверху кувшин накрыт крышкой с небольшим отверстием-душником, закрытым шарнирно поворачивающейся крышечкой. На крышке также закреплены две шишечки. Сверху на трубу надевается цилиндрическая фигурная конфорка с пробитыми в ней отверстиями, а венчает все сооружение закрывающая трубу гасилка, или колпачок.

12. Осветительная арматура
В русской деревне до конца XIX в. еще употреблялось освещение
тонко наколотой сосновой или еловой лучиной, зажатой в слегка
наклонном положении в светец. Светец представлял кованый железный,
квадратный в сечении пруток, расщепленный в верхней части
или с несколькими чередующимися, загнутыми в завиток отщепами
по бокам. Были короткие светцы, вбивавшиеся в деревянную подставку,
а часто в небольшое деревянной корытце с водой, и высокие,
на кольцеобразной подставке, под которые ставили корытце.
Вода была необходима, поскольку упавшие угольки от лучины могли
вызвать пожар.
С античных времен были известны также разного рода масляные и жировые светильники — глиняные сосуды, а иногда просто черепки, налитые растительным маслом или животным жиром, в котором находился горящий фитиль. Такие примитивные светильники, называвшиеся жирниками, плошками или каганцами, употреблялись в русской деревне до начала XX в. Однако масляные лампы, как будет видно ниже, использовались и в городе социальной верхушкой в XIX в. В течение многих веков основным средством освещения у имущего населения были свечи — круглые стержни из какого-либо плавкого материала, через который была пропущена нитяная светильня. С раннего средневековья известны восковые свечи, но они были дороги и использовались только при богослужении и у наиболее богатых людей. С XII в. в употребление быстро входят дешевые сальные свечи из какого-либо животного жира, сначала изготовлявшиеся маканием светильни в растопленный жир, а с XVII в. — путем отливки в формах. Однако сальные свечи, употреблявшиеся небогатыми людьми еше в XIX в., были неудобны. Сало пачкало одежду и смердело при горении, а слегка скрученная светильня из толстых ниток не успевала сгорать, изгибалась и ее конец выступал из пламени, так что свеча начинала тускло гореть и коптить, а сало плавилось и стекало вниз. Для снятия нагара на настольных светильниках использовались особые щипцы в виде ножниц, к концам которых прикреплялись две небольшие жестяные коробочки, входящие друг в друга. Разумеется, снимать нагар в люстрах и бра было невозможно.
В XVIII в. появились спермацетовые свечи из содержащегося в черепах кашалотов особого жирового вещества. Спермацет менее плавок и не оставляет жирных пятен, но дорог и свечи из него были доступны не всем.
В 1825 г. в Англии появились недорогие и удобные стеариновые свечи, а в конце 40-х гг. были построены заводы стеариновых свечей в Варшаве и Москве. В России стеариновые свечи назывались также каллетовскими, поскольку завод в Москве был открыт неким Каллетом. Стеариновые свечи не коптили: плетеная светильня была тонкой и пропитывалась смесью кислот, отчего она в пламени стекленела и полностью сгорала.
Во второй половине XIX в. появились более дешевые и качественные парафиновые свечи, но к этому времени свечное освещение стало выходить из употребления.
Низкое качество сальных свечей вызвало к жизни употребление масляных ламп. В конце XVIII в. во Франции Арганд изобрел новый тип масляной лампы, введший масляное освещение в широкий обиход. У лампы Арганда в цилиндрическом медном резервуаре находилось масло (жидкий китовый жир или спермацет), от которого вниз-вбок отходила трубка-кронштейн; к последней вертикально крепилась двойная трубка-горелка. Резервуар находился выше горелки, так что масло поднималось до ее верха в промежутке между трубками. Воздух поступал к кольцеобразному пламени как снаружи, так и изнутри, по внутренней трубке, хорошо омывая пламя и обеспечивая яркое горение. В начале XIX в. Кенке снабдил лампу Арганда цилиндрическим стеклом, прикрывавшим пламя и усиливавшим тягу, и в широко распространившихся кенкетах горение было ярким и постоянным.
Затем Карсель снабдил лампу Кенке часовым механизмом с пружиной и поршнем для равномерной подачи масла в горелку под давлением. Это обеспечило большую яркость, правильность горения и постоянство света карсельных ламп, так что во Франции их свет был принят за единицу освещения. Кенкеты и карсели употреблялись преимущественно в качестве бра и настольных светильников. В настольных лампах на вертикальной штанге с поддоном обычно закреплялись два резервуара с горелками.
Лампа Арганда с двойной трубкой была принята и для газового освещения, появившегося в Англии и Франции в начале XIX в.; в России газовое освещение стало входить в употребление в 40-х гг., почти исключительно в общественных помещениях: люди опасались взрыва газа, а кроме того, газовые светильники портили воздух продуктами сгорания и давали мертвенно-синеватый свет. Разновидностей газовых горелок было создано большое количество, но наиболее удачной оказалась горелка Ауэра, в которой газ использовался для накаливания сетчатого колпачка из тугоплавкой проволоки; свет давал уже раскаленный добела колпачок.
Газовое освещение не получило широкого распространения еще и потому, что природный газ еще не добывали, а главное — не было трубопрокатной промышленности для создания магистральных газопроводов и доставки газа потребителю. Использовался принцип газификации каменного угля на небольших газовых заводах и установка в домах газовых баллонов.
В конце 50-х гг. XIX в. в Америке был изобретен способ выделения из нефти керосина и появились керосиновые лампы, быстро ставшие вытеснять во второй половине XIX в. все остальные виды освещения. В России они появились во второй половине 60-х гг. В основном использовались лампы с плоской светильней (фитилем) шириной в 5, 10 и 14 линий, отчего лампы подразделялись на пятидесяти- и четырнадцатилинейные. Надевавшиеся на горелку с отверстиями в нижней части ламповые стекла обеспечивали улучшенную тягу и ровное горение. Были лампы и с круглыми светильнями и улучшенным поступлением воздуха к пламени снаружи и изнутри. Керосиновые лампы были настольные, настенные, с рефлектором и подвесные. В подвесных лампах использовалась система блоков с противовесом в виде металлического шара, наполненного свинцовой дробью; это позволяло без труда опускать лампу для заправки, чистки стекла и зажигания и тушения и поднимать ее, фиксируя на определенной высоте.
Если кенкеты и карсели целиком делались из листовой меди или латуни, то в керосиновых лампах стало широко употребляться стекло и фарфор: зеленые или молочно-белые, иногда с живописными цветами и венками колпаки (абажуры), белые или голубые стеклянные или фарфоровые, также нередко с росписью, резервуары для керосина.
Однако на протяжении столетий основным видом осветительной арматуры была люстра или ее производные: полулюстры, бра, торшеры, жирандоли, канделябры, в которые вставлялись свечи. Несовершенство свечи требовало многосвечных светильников, в которых имела место необходимость множества элементов, заполнявших большой объем светильника и композиционно связывающих пламя многих свечей в единое целое. Главным материалом для этих элементов стало стекло, впервые нашедшее широкое применение в Венеции, почти монопольно владевшей секретом стекольного производства.
Хотя стекло хорошо было известно уже в античности, это было цветное стекло. Для производства прозрачного стекла необходим прежде всего, как исходный материал, особо чистый кварцевый песок, свободный от примесей металла, окрашивающих стекло. Это впервые открыли венецианцы, сосредоточившие все стекольное производство в венецианской лагуне на о. Мурано, сложенном из белого кварцевого песка. Однако венецианское стекло было мягкое, практически не поддававшееся гранению. Это т.н. лепное стекло. Тип венецианской люстры лепного стекла — это пучок стеклянных стеблей, растущих из единого стеклянного тела в виде чаши и свободно извивающихся вверх. Стебли перевиты между собой, украшены лепными листьями и цветами, в которых устроены чашечки для свечей. Употребляются также свисающие гирлянды и цепи из стеклянных колец. Вся композиция крепится на центральном металлическом стержне, задекорированном стеклом. По стилю венецианские люстры типично барочные, XVI—XVII вв.
Однако в арматуре из мягкого лепного стекла свечи давали ряд расплывчатых бликов, так что люстра практически почти не усиливала светового эффекта. Между тем, задача осветительной арматуры заключается не только в том, чтобы держать свечи, но и в усилении их действия путем многократного преломления и отражения в элементах люстры. В XVII в. в Богемии (Чехия) появился новый светотехнический материал — хрусталь, а в последней четверти XVIII в. в Англии началось производство более качественного свинцового хрусталя.
Особенность хрусталя заключается в его высокой чистоте и твердости, позволяющей гранить его. Детали люстры располагались за пламенем свечи, на одном уровне с ним, многократно преломляя и отражая световую точку в многочисленных гранях; ярусу свечей соответствовал ярус хрусталя. В результате число световых точек во много раз превышало количество свечей.
По способу крепления элементы осветительной арматуры делятся на подвески, пронизки и бусы. Изредка они делались в оправе, но обычно подвешивались свободно, чтобы использовать всю площадь. Для центрального тела светильника, на котором монтировались элементы, использовались формы обелиска, балясины, чаши, шара; в нижней части использовали шаровидные и грушевидные детали. Одна из самых ранних форм подвески — дубовый лист, с проточками, имитирующими прожилки листа и гранением кромок. Старинной и часто повторявшейся формой была «капля» или «слезка», гранившаяся по типу драгоценных камней, но в XVIII в. капля часто бывала без огранки. Употреблялись и иные формы: «палочка», имевшая в сечении форму треугольника, квадрата, пяти- и шестигранника; «сосулька» — видоизменение палочки или слезки, у которой нижний конец шлифовался в виде ромбовидного ребристого наконечника или имел форму сильно вытянутой слезки. Пронизки были чечевицеобразные, гладкие или граненые. Употреблялись также пронизки-«звеэдочки», плоские, с отверстием для крепления в центре, «розетка» — звездочка с гранением в виде сходящихся лучей. Бусы были круглые или многогранные. Обелиски в центральном теле делались гранеными, иногда с вогнутыми гранями, с шаровидными проточками в плоскостях. Фигурные балясины нередко были двухслойные, из цветного стекла, со сквозной прошлифовкой верхнего слоя. Чаши были плоские и открытые, либо глубокие, с перехватом-шейкой; они могли быть стеклянные, бронзовые и даже из золоченого папье-маше. Цветное стекло в центральном теле обычно употреблялось выдувное, двух- и даже трехслойное: синее, бирюзовое, реже красное. Группы подвесок, прониэок и бусин располагались гирляндами вокруг центрального тела, образуя «дождик».
В употреблении были следующие разновидности светильников с хрусталем или стеклом: люстра в виде круговой, часто многоярусной композиции, подвешивавшейся к потолку; полулюстра — полукруглая многоярусная композиция, подвешивавшаяся к потолку возле зеркальной стены; канделябр — многосвечный настольный одноярусный светильник со свечами, расположенными в одной плоскости на ножке с поддоном; жирандоль — также настольный многосвечный светильник на ножке, но со свечами, расположенными вкруговую, иногда в 2-3 яруса; торшер — большой напольный канделябр или жирандоль на высокой ножке; бра — настенный светильник на несколько свечей, расположенных полукругом; фонарь — подвесной светильник на несколько свечей, в виде граненого или круглого прозрачного колпака (употреблялся в вестибюлях и спальных). Но главным типом светильника была люстра,- прочие же представляли ее видоизменения.
По композиции различаются люстры стержневые, кольцевые, имеющие в основе чашу и смешанные; имеются их различные варианты. При большом количестве рожков для свечей употребляются два-три корпуса, яруса, один над другим; обычно верхние корпуса и кронштейны меньшего размера, нежели нижние. Дальнейшее увеличение числа свечей шло за счет разветвления кронштейнов-рожков. Сначала в самой ранней по типу стержневой люстре нити хрусталя навешивались между рожками, затем они стали соединять ярусы, пока хрусталь не заполнил всю люстру и она не превратилась в цельное объемное тело. Осевой стержень и рожки перестали играть декоративную роль, выступая лишь как конструктивные элементы. Наиболее сложным типом стержневой люстры была елизаветинская (середина XVIII в.), где хрусталь скрывал стержень.
В кольцевой схеме наиболее совершенный тип люстры — павловская. Первоначально рожки размешались на кольце, обычно большого диаметра, нередко деревянном, а редкие нити хрусталя протягивались к от кольца к кроне, верху люстры. Затем хрусталь стал подвешиваться гуще, как от кроны к кольцу, так и от кольца книзу, к центру, образуя внизу полушарие. В начале XIX в. хрусталь подвешивался очень густо, скрывая внутреннее устройство люстры и образуя сплошной хрустальный объем, пересеченный несколькими кольцами.
Люстра с чашей, так называемая екатерининская, все большее значение приобретает во второй половине XVIII в. В ее основе плоская чаша, подвешенная на цепях. Рожки-подсвечники крепились к верхнему кольцу чаши по одному, либо кустами, на кронштейнах, иногда в 2 яруса. Первоначально чаши были небольшие, хрустальные, с глубокими прошлифовками. Затем они стали делаться главным образом из бронзы и латуни с чеканкой, и даже из позолоченного папье-маше; они, собственно, и считаются екатерининскими. С увеличением размеров чаши стали выделываться ажурными, решетчатыми, часто украшенными хрусталем; хрусталь стал подвешиваться редкими нитями от кольца чаши к кроне. Люстры с чашей обычно украшались парадной осевой балясиной выдувного цветного стекла, ультрамаринового, кобальтового, рубинового, в виде вазы или кувшина.
Во второй четверти XIX в. стали появляться люстры смешанной композиции: чаша, а над ней несколько кольцевых ярусов с густыми хрустальными подвесками; иногда их называют николаевскими. Варианты композиции фонаря ограничиваются двумя основными типами: екатерининским, с колоколообразным цельным колпаком и с хрустальными подвесками по верхнему краю, иногда в несколько гирлянд, и шестигранным, на металлическом каркасе с плоскими стеклами, иногда с прошлифовками.
Во второй половине XIX в. ничего принципиально нового не появилось, тем более, что свеча стала уступать место масляной, газовой, а затем и керосиновой лампе, и, наконец, электрическому освещению. В электрической люстре хрусталь должен не усиливать световую точку, а скрыть неэстетичную электрическую лампу, а потому он располагается не за световой точкой, а перед ней. Да и хрусталь стал заменяться более дешевым стеклом и даже плексигласом.

13. Ювелирные изделия
Ювелирное искусство соседствует с музейными понятиями «металл»,
«стекло» и «керамика», поскольку технологии и материалы здесь
в ряде случаев оказываются общими (например, скань, филигрань или
эмаль). Народное ювелирное искусство преимущественно представлено
женскими украшениями — серьгами и шейными украшениями (бусами,
подвесками) из недорогих материалов: коралла, низкопробного
серебра, а то и из «самоварного золота» — обрезков латуни,
использовавшихся кустарями-самоварниками для дополнительного
приработка; такие кольца, мужские булавки для галстуков, часовые
цепочки и брелоки в прошлом даже назывались «тульскими»: Тула с ее
развитым самоварным производством и была основным центром ювелирного
производства для невзыскательного небогатого потребителя.
Значительно более развитым было ювелирное производство для
социальной верхушки, использовавшее драгоценные металлы и самоцветные,
реже поделочные камни. Оно выработало сложные технологии и развитую терминологию.
Обработка камня.
В ювелирном искусстве широко употребляется как прозрачный неокрашенный или окрашенный окислами металлов камень-самоцвет (алмазы, рубины, изумруды, сапфиры, шпинели и т.д.), так и непрозрачные поделочные камни (малахит, родонит (орлец), яшмы, недорогие сердолики, гагат и агат); имеются и своеобразные полупрозрачные камни, вроде нефрита, топазов. Ювелирное дело также широко употребляло «камни» биологического происхождения: жемчуг и коралл. В России помимо дорогого крупного восточного жемчуга, добывавшегося в океанах, а также «кафского» жемчуга, привозившегося некогда из Кафы, Феодосии с Черного моря, преимущественно в народном искусстве широко употреблялся мелкий речной жемчуг неправильной формы. Им расшивались праздничные женские головные уборы, из него шили оклады на иконы и т.д. В народном же ювелирном искусстве весьма популярным был цветной средиземноморский коралл, шедший преимущественно на изготовление бус.
Наиболее древний способ обработки камня — резьба по нему или глиптика. Различаются геммы-инталио с углубленным резным изображением, и камеи, с выступающим, более или менее плоским рельефом. Гранение камня развивалось очень медленно, по мере развития техники. Наиболее простой способ, употреблявшийся еще в древности — кабоширование, т.е. обработка в форме кабошона: верхняя сторона камня с помощью полировки получала двояковыпуклую округлую форму, нижняя была плоской. Таким способом обрабатывают полупрозрачные и особенно непрозрачные камни: большая площадь кабошона позволяет выявить красивую фактуру камня. В XIV-XV вв. распространилась обработка в форме таблицы, отвечавшей природной форме некоторых камней, например, алмаза. У цветных непрозрачных камней верхняя поверхность была плоской, позволяя показать фактуру, а грани скашивались; у прозрачных камней при правильной форме кристалла вершина представляла вид правильной пирамиды. Только в XV-XVI вв. стали употреблять фацетирование, т.е. гранение. Это позволило в XVII в. перейти к гранению розы, или руты — ограненного круглого камня с диаметром вдвое большим, чем высота; верхняя часть такого камня называется крона, или павильон, нижняя — кюласса. Обе они правильно фацетируются. т.е. покрываются гранями, фацетами. Способов огранки много, главное же — образуется множество сопрягающихся плоских треугольничков. Такая грань еще называется бриллиантовой, так как она прежде всего употребляется для огранки алмазов. Посередине камня иногда гранится выпуклый поясок — руидиста, которая и закрепляется в оправе. В крупных камнях употреблялась форма огранки бриолет, напоминающая каплю. Форма огранки крупных камней в виде грушевидной подвески называется панделок.
Оправа.
Для оправ употребляется золото в сплавах с медью (т.н. красное), с серебром (желтое) и с никелем или палладием (белое). Серебро в ювелирных украшениях также употребляется в сплавах, главным образом с медью. Примеси необходимы, поскольку в чистом виде серебро, а особенно золото слишком мягки и быстро стираются. Платина в оправах употребляется значительно реже из-за ее препятствующей ювелирной обработке твердости. Наряду с благородными металлами в ювелирном деле употребляются также их имитации. Вместо серебра используют альпак или нейзильбер — сплав меди, никеля и цинка, мельхиор — также сплав меди и никеля, а вместо золота — томпак, сплав меди и цинка.
Наиболее древний вид оправы — гнездовая: плоско сошлифованный снизу камень вставляется в подготовленное для него гнездо, состоящее из плоского донца и тонкой, припаянной на ребро полоски того же металла — царги; царга могла подвергаться дальнейшей ювелирной обработке. При гнездовой оправе под прозрачные камни нередко подкладывали тонкую металлическую фольгу, улучшавшую цвет камня. После изобретения бриллиантовой огранки для прозрачных камней стали использовать оправу ажур, в которой камень открыт сверху и снизу, закрепляясь за рундисту мелкими лапками. Оправа ажур может иметь форму ривьеры, сплошного потока драгоценных камней, за которыми не виден металл оправы.
Ювелирная техника.
При работе с металлами, в том числе и при изготовлении ювелирных изделий, употреблялись различные виды техники: ковка, литье, чеканка, басма и т.д. Одним из древнейших видов обработки металла была свободная ручная ковка: придание требуемой формы ударами молотка по нагретому (горячая ковка) или холодному (холодная ковка) куску металла, лежащему на наковальне. Поверхность кованых изделий слегка неровная, с мягким мерцающим блеском. При литъе мастер делал модель изделия из глины, дерева или воска и отформовывал ее в разъемной опоке из особой формовочной земли. Деревянная или глиняная модель затем вынималась из разъемной формы, и в образовавшуюся пустоту заливался жидкий металл. Восковая модель заливалась особой смесью «горелой» земли с добавками и после ее высыхания жидкий металл лился прямо на воск: воск растапливался и выливался, а его место занимал металл. Восковые модели были одноразовыми.
При чеканке металлу придавали нужную форму, обрабатывая его в холодном состоянии так называемыми разгонными молотками. Тонкий лист металла лежал на свинцовой или смоленой подушке. Короткими частыми ударами молотка при постоянном прижиме к подушке и вращении он выстукивался до принятия нужной формы. Затем с помощью стальных чеканов определенного профиля выбивался нужный орнамент. Для создания матовой зернистой поверхности, скрывающей вмятины от разгонных молотков, т.е. для канфаренья чеканных изделий пользовались канфаренником — чеканом с острым концом.
Басма является своеобразным продолжением чеканки. Использовались басменные доски-матрицы с вырезанным орнаментом: тонкий лист металла накладывался на доску, покрывался свинцовой прокладкой и по ней наносились удары деревянным молотком-киянкой. Свинец вдавливался во все углубления, повторяя рельеф матрицы, и вгонял в них тонкий лист металла. Путем чеканки изготовляли, например, металлическую посуду (стопы, чарки, братины и т.д.), а басменьем — оклады для икон. Чеканка и басменье нередко дополнялись гравировкой, эмалью, зернью, сканью.
Гравировка выполнялась острым стальным резцом-штихелем. Переведя рисунок на металл, мастер вырезал в нем углубленный орнамент. Разновидностью гравировки является оброн, при котором резцом создается высокий рельеф и даже объемная скульптура из металла. На неблагородных металлах вместо гравировки или вместе с ней применяется травление: предмет покрывается специальной мастикой, по которой иглой процарапывается рисунок, который затем заливают едкими кислотами. Чистый металл разъедается в процарапанных местах и получается углубление нужной формы, которое затем поправляется резцом.
Широко использовалась филигрань — изделие из тонко накерненной (рифленой) проволоки, напаянной в виде какого-либо узора на металлическую основу. К филиграни близка скань: изделие выполняется ажурно, из жгутиков перевитой тонкой проволоки, обычно накерненной и запаиваемой в местах пересечения; скань может и напаиваться на плоскость. Обычно со сканью и, особенно, филигранью сочетается зернь — создание орнамента из напаянных на основу мельчайших металлических шариков. Широко употребляется чернь — нанесение в награвированные или вытравленные в светлой металлической основе кислотами углубления, составляющие орнамент, особых порошковых смесей, при термообработке образующих плотное черное вещество, приплавляюшееся к основе. Изделия из неблагородных металлов украшаются насечкой (инкрустированием) из нитей благородных металлов, вставленных в награвированные или начеканенные риски и плотно расклепанных там молоточком. Неблагородные металлы могут покрываться также, с помощью различных технологий, позолотой или серебрением; чтобы избежать жирного блеска золота и добиться благородной матовости, затем поверхность канфарится — обрабатывается твердым стальным зубчатым колесиком, чтобы нанести на поверхность мельчайшие рябинки. Для оживления фона изделия применяется также гильоширование — механическое гравирование. Фон покрывается мелкими частыми штрихами разнообразных разводов, прямолинейными или криволинейными, идущими параллельно или перекрещиваясь под разными углами. Гильошированный металл часто покрывался прозрачными эмалями.
Эмаль.
В ювелирном деле особое место занимает эмаль или финифть, нередко сочетающаяся со сканью и другими техниками. Эмаль представляет собой плотные стекловидные цветные массы, создающиеся при термической обработке из порошковых или пастообразных смесей особого состава. Существует множество техник эмальерного (финифтяного) дела. Древняя перегородчатая эмаль создается путем напаивания на металлическую основу на ребро тонких узеньких полосок такого же металла, образующих узор; затем возникшие гнезда заполняются смесями, подвергаются термообработке и полируются, так что между участками эмали разных цветов видна тончайшая полоска металла, образующая рисунок. Широкое распространение имет эмаль по скани: на металлической основе создается сканный узор, иногда дополнявшийся зернью, углубления заполняются смесями и обжигаются. Для выемчатой эмали углубления под смеси выгравировываются или вытравливаются кислотами. Аналогичным образом создается прозрачная эмаль по резьбе на серебре. Оконная эмаль выполняется на металлической сетке, так что тонкие стекловидные пластинки эмали просвечивают насквозь.
Популярно также старинное искусство живописи по эмали: по белой эмалевой поверхности, располагающейся на какой-либо подложке, писали миниатюры эмалевыми красками, а затем изделие подвергалось термообработке.
История финифтяного дела в России насчитывает много веков. Уже в Киевской Руси изготовление фибул и колтов из перегородчатой эмали достигло такого уровня, что русские изделия вывозились во Францию, славившуюся своими лиможскими эмалями. Монголо-татарский погром практически положил конец истории перегородчатой эмали. В дальнейшем начинают развиваться другие техники финифтяного дела и в XVI-XVII вв. на первое место выдвигается Устюг Великий, прославившийся своими эмалями по скани. Производство эмали по скани заняло видное место с середины XVI в. в Новгороде Великом, а затем в Москве. В 40-х гг. XVII в. в Москве и Сольвычегодске широко внедряется расписная эмаль (не путать с живописью по эмали), а на русском Севере, преимущественно в Устюге Великом — эмаль по литью. В XVIII в. на первое место по объему производства начинают выдвигаться Ростов Великий, Москва и Петербург. Ростов в основном занимался живописью по финифти (это производство сохраняется до сих пор); большую часть продукции составляли эмалевые образки. Наиболее значительным здесь было производство мастерской Шапошниковых. Вообще в эмальерном искусстве медная литая иконка, складень и распятие, украшенные финифтью, стали одним из главных видов продукции, производясь в огромном количестве в традиционных центрах финифтяного дела Русского Севера. В Москве с середины XIX в. господствуют национальные мотивы — в основном безвкусные повторения старинных эмалей XVI-XVII вв. и их вариации. Здесь выделяются мастерские серебряников и эмальеров Хлебникова, Овчинникова, Шишукова, Шелапутина.
Петербург в эмальерном деле ориентировался главным образом на Запад, на французские и особенно итальянские эмали, вплоть до видоизмененного копирования работ Рафаэля и Леонардо да Винчи. Но наиболее известная как высоким художественным и техническим качеством изделий, так и объемом производства фирма Фаберже широко пользовалась и русскими национальными мотивами, особенно в пасхальных яйцах и предметах церковного обихода.
Украшения.
Большое место среди ювелирно исполненных изделий занимают украшения. Каждая эпоха создавала украшения по-своему, и не только с точки зрения присущего ей стиля, но и в том, что касалось выбора материалов, способов обработки и техники, а также вида самих изделий.
Одним из древнейших украшений были фибулы — крупные булавки для скрепления одеяний, например, плащей, мантий. Мантии, пояса, отвороты шейного выреза женских платьев застегивались также аграфами — изящными крупными пряжками. В эпоху Ренессанса аграфы на платьях стали уступать место подвескам, группе драгоценных камней, подвешивавшихся в ряд к булавке; подвески вкалывались также в прически, прикалывались к платью на плече, предшествуя брошам, ставшим последним криком моды в XVIII в. В XVIII в. получили распространение также небольшие изящные букеты из драгоценных камней и металлов, обычно с эмалями, прикалывавшиеся у выреза корсажа или на поясе. Поскольку вместо ювелирных букетов платья часто украшались живыми мелкими цветами, например, незабудками, их вставляли в портбукет — золотую трубочку, составленную как бы из стебельков, обвитых лентой, украшенной мелкими камнями и эмалью.
В XVIII—XIX вв. широко употреблялись эгреты — небольшие композиции из золота и драгоценных камней, вкалывавшиеся в женские прически или прикалывавшиеся к головным уборам; в них вставлялись перья, чаще всего страусовые. В это же время в прическах и головных уборах широко употреблялись шпильки, ювелирно оформленные эмалями и камнями в форме бантов, рогов изобилия, мотыльков и т.д. Для украшения причесок использовались также жесткие диадемы и эластичные диадемы-бандо в виде повязки или венка из драгоценных камней. Своеобразным головным украшением была вошедшая в начале XIX в. ферроньера — подвеска из крупного камня, иногда в окружении мелких камней, носившаяся на лбу на цепочке-повязке. В середине XVIII в. в моду вошли склаважи — плотно охватывающие шею три-четыре ряда камней или жемчуга, застегнутые сзади аграфом; порой они носились вместе со свободно свисавшими нитями жемчуга. Спереди на шее мог носиться драгоценный бант-склаваж, крепившийся к плотно охватывающей шею бархотке или кружевной ленте. Естественно, широко употреблялись серьги, бусы, ожерелья, кулоны — камни в оправе на цепочке или ожерелье, браслеты, перстни и кольца. Мужчины также носили портбукеты, браслеты, перстни, кольца, а галстуки закалывали ювелирными булавками с крупным камнем. Крупный одиночный бриллиант в булавке, шпильке, кулоне, ферроньере, серьгах назывался солитером.
Существовало большое разнообразие серег. Их ранний тип — серьги-одинцы: стерженек с нанизанными на него просверленными камнями и бусинами; серьги с двумя стерженьками назывались двойчатками, с тремя — тройчатками. Были серьги-голубцы, напоминавшие силуэтом двух птичек. На протяжении всего XVIII в. излюбленными были серьги-жарндоли с тремя подвесками разной величины из крупных камней каплевидной огранки. В народном искусстве выделяются разнообразные по форме серьги из туго нанизанных на медную проволоку мелких жемчужин, ажурные, плоские или объемные, цельные и с подвесками; иногда в изделие вставлялись цветные полированные стекла.
Большой популярностью пользовались серьги-банты с подвесками. Изысканным украшением были пуговицы: плоские, грушевидные, шарообразные. Их нередко делали из ценных металлов, с мелкими камнями, чернью, эмалью, зернью, гравировкой, гладкие литые или ажурные сканные. Были и пуговицы, из граненых одиночных крупных камней в оправе. Но и дешевые медные пуговицы, выполненные в сложной технике скани, выглядели не хуже дорогих.
Обычно ювелирные украшения составляли выполненный из определенного вида камней и в определенном стиле набор — парюру. Небольшой набор, включавший несколько вещей, назывался полупарюрой. Количество одновременно носимых украшений, величина и вид камней зависели от моды.

14. Пряники
Своеобразной разновидностью русского народного декоративно
-прикладного искусства являются пряники. Русский пряник был не
только лакомством, но и изделием подарочным и ритуальным.
Специально приготовленные пряники использовались в свадебном
обряде, их принято было дарить на именины и в Прощеное Воскресенье,
«разгонные» пряники подавались гостям в знак окончания пира, а
небольшие твердые пряники использовали в особой игре: их кидали
как можно дальше, и выигрывал тот, чей пряник остался целым.
Готовили пряники преимущественно из ржаной или из специальной
«куличной» пшеничной муки на меду, патоке, с добавкой имбиря,
гвоздики, померанца, аниса, миндаля.
Известно несколько форм пряника. Ритуальным был лепной пряник из ржаного теста на воде, с солью, в виде обобщенной формы животного: коня, коровы, козы, оленя, петуха. В народном быту все они назывались «козулями». Близкими к козулям были также лепные «витушки» или «тетеры», также из ржаного теста, раскатанного в виде жгутиков, из которых затем делали фигурки животных либо спиралевидные геометрические фигуры, близкие к древним солярным знакам.
Наиболее известны печатные пряники, изготовлявшиеся с помощью пряничной доски или «пряницы» как рельефный оттиск на тесте. Пряницы вырезались из толстой доски, мягкой липовой или твердой грушевой, ореховой, кленовой, а чаще березовой древесины: твердая доска дольше служила и лучше держала грани резьбы. Для продления срока службы и лучшего отлипания теста доски проваривали в кипящем растительном масле или ставили в восковую баню. Резные грани орнамента должны были иметь открытый наклон. Орнамент на прямоугольном прянике был разнообразный, продиктованный назначением пряника или фантазией резчика: человеческие фигуры (например, жениха и невесты), храмы, фантастические города-крепости, животные, птицы, рыбы и т.д.; нередко они сопровождались дарственными или благожелательными надписями. Часто употреблялся и растительный орнамент. Внутренняя поверхность доски покрывалась мелкоуэорной выемчатой резьбой в форме зубчиков, желобков, гребешков, стрелок и пр. Размеры пряников были различны. Самыми крупными были доски для выделки свадебных и заздравных пряников: до одного аршина, в длину и 12 вершков в ширину. Доски могли быть «штучные», позволявшие сделать оттиск только одного пряника, и «наборные», когда на доске размещалось 2, 4, 6, 8, 16 и более «шашек» с одним или разными сюжетами. Владимирским краеведом и этнографом И. Голышевым в 1870-х гг. был составлен «Атлас рисунков со старинных прянишных досок».
Еще одна старинная разновидность пряников — силуэтные. Первое упоминание о них относится к 1850 г., а к началу XX в. они стали наиболее массовыми из фигурных пряников. Такие «вырубные» пряники получали форму животных, птиц, рыб, человеческих фигур, разумеется, весьма обобщенную. Плоскость пряника заполнялась мягким линейным орнаментом, не всегда имевшим связь с формой изделия. Такие пряники расписывались яркой сахарной глазурью, иногда украшались небольшими листочками сусального золота. Существовали также пряники комбинированные, в которых плоский силуэт сочетался с вылепленными рельефными фигурками из цветного сахара.
Комбинированные пряники выпекали, например, в Калуге и Коломне. Эти пряники были небольшого размера и служили преимущественно для украшения рождественских елок. На некоторых пряниках оттискивались буквы алфавита, чтобы сделать привлекательным обучение детей чтению. Самым же массовым пряником были мелкие бесформенные «жамки» в виде приплюснутой круглой лепешки, иногда с неопределенного рисунка мелким орнаментом снизу. Они-то преимущественно известны сегодняшнему потребителю под общим названием «пряники».

15. Иллюстрации
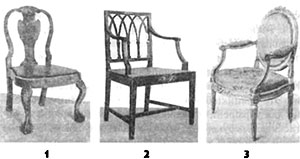
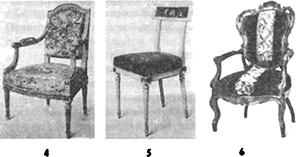
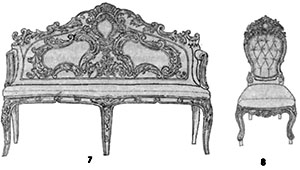
Русская мебель:
1 — стул первой четверти XVIII в.,
2, 3, 4 — кресло последней четверти XVIII в.,
5 — стул последней четверти XVIII в.,
6— кресло 1840-х гг.,
7 — диван середины XVIII в.
8 — стул середины XVIII в.
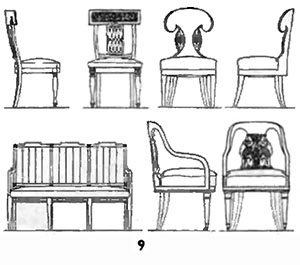
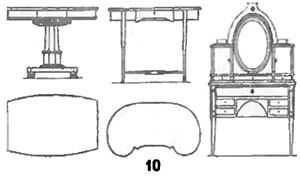
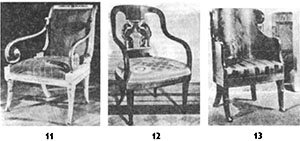
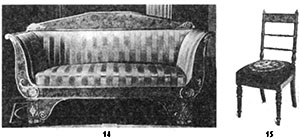
Русская мебель:
9 — стулья, диван и кресло конца XVIII — начала XIX вв.;
10 — столы конца XVIII— начала XIXвв.,
11,12 — кресло начала XIXв.,
13 — кресло-корытце начаа XIX в.,
14 — диван первой четверти XIX в.,
15 — стул 1840-х гг.
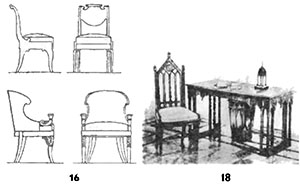
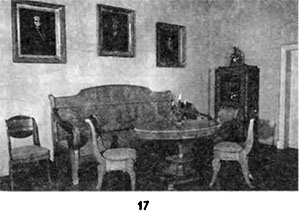
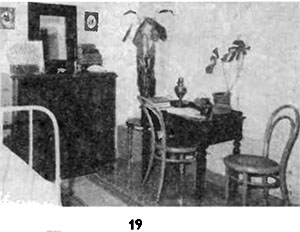
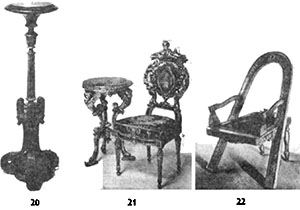
Русская мебель:
16 — cmyл и кресло первой четверти XIXв.,
17— интерьер первой четверти XIXв.,
18 — «готические» cmy.i и стол 1830-х гг.,
19 — комната в небогатом доме последней четверти XIXв.,
20 — подставка под цветы 1870-х гг.,
21 — стул и столик 1880-хгг.,
22 — псевдорусское кресло последней четверти XIX в.
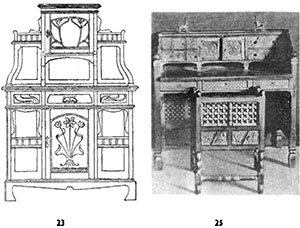
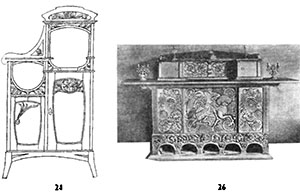
23, 24 — шкафы начала XX в. в стиле модерн,
25 — бюро и кресло начала XX в. в русском стиле,
26 — буфет начала XX в. в русском cтиле.

Резьба и роспись по дереву:
1 — трехгранно-выемчатая резьба,
2 — свободная кистевая роспись,
3 — контурная роспись,
4 — хохломская фоновая роспись,
5 — хохлюмская роспись «Травка»
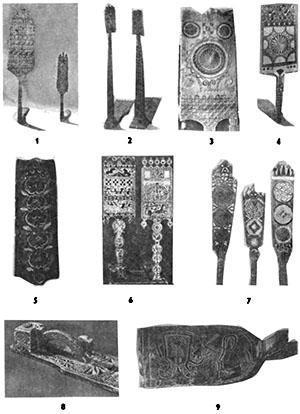
Прялки и донца:
1 — мезеньская (палащельская) прялка,
2 — грязовецкие прялки,
3 — тарногская прялка,
4 — толгшменская прялка,
5 — каргопольская прялка,
б — борковские прялки,
7 — поморские прялки,
8 — верхневолжское донце,
9 — городецкое донце.
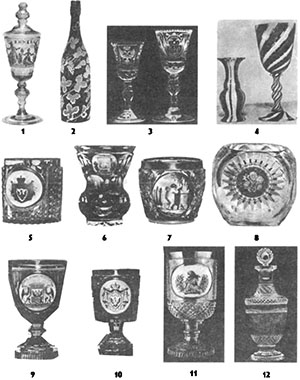
Стекло и хрусталь:
1 — кубок середины XVIII в.,
2 — бутыль XVIII в. синего и молочного стекла,
3 — бокаш середины XVIII в. с гравировкой,
4 — венецианское стекло,
5 — кружка конца XVIII в., грань райком,
6 — стакан конца XVIII в., грань ложкой,
7 — кружка начала XIX в., грань камнем,
8 — ваза середины XIX в., расписной граненый хрусталь,
9 — кубок начало XIX в., грань райком,
10 — бокал начало ХIХ в., огранка камнем и овальной гранью;
Никольский хрусталь:
11 — бокал 1830-х гг., грань камнем,
12 — графин 1830-х гг., грань камнем.
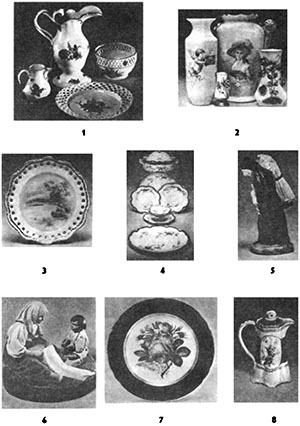
Фарфор:
1 — сервиз середины XIX в.,
2 — вазы конца XIXв.,
3 — тарелка середины XIXв.,
4 — обеденный сервиз начала XIX в.,
5, 6 — фарфоровая скульптура первой и второй половины XIX в.,
7 — тарелка второй половины XIX в.,
8 — молочник середины XIX в.
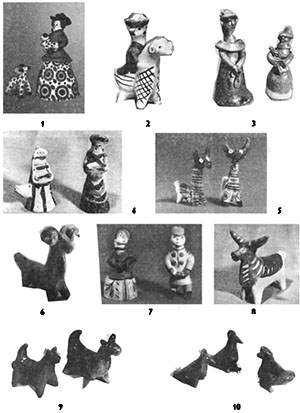
Глиняная игрушка:
1 — вятская (дымковская),
2 — курская (кожлянская),
3 — рязанская (скопинская),
4 — рязанская (сапожковская),
5 — тульская (филимоновская),
6 — пензенская (абашевская),
7 — каргопольская,
8 — липецкая (романовская),
9 — ярославская (череповецкая),
10 — костромская (сусанинская).
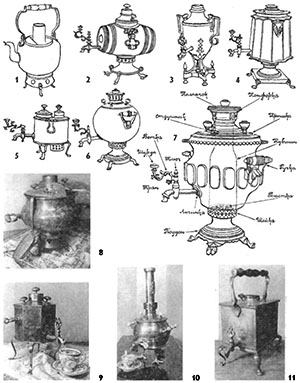
Самовары:
1 — сбитенник середины XVIIIв.,
2 — самовар-бочонок начала XIXв.,
3 — самовар ампирный начала XIX в.,
4 — граненый самовар 30—40-х гг. XIX в.,
5 — «кофейник-самовар» середины XIX в.,
6 — самовар-шар середины XIX в.,
7 — самовар фабрики Воронцовых в Tyлe 60-70-х гг. XIX в.,
8 — «кухня-самовар» конца XVIII — начала XIX вв.,
9 — самовар первой Тульской самоварной фабрики, основанной в 1778г.,
10 — «самовар-петух», сделанный в память Всемирной венской выставки 1873г.,
11 — дорожный самовар конца XIXв.
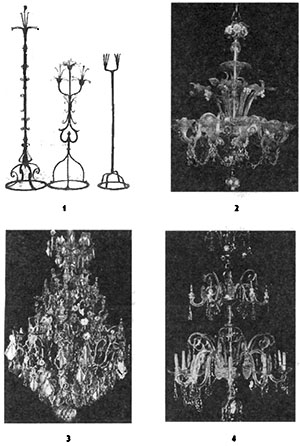
Осветительная арматура:
1 — светцы,
2 — люстра венецианская,
3 — люстра елизаветинская,
4 — английская стержневая люстра XVIII в.
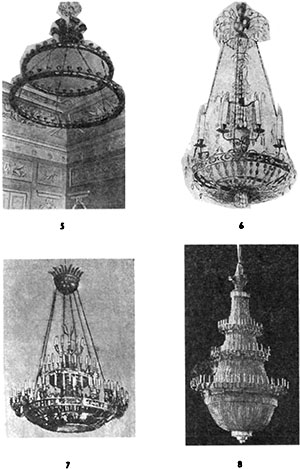
Осветительная арматура:
5 — кольцевая люстра павловского типа,
6 — люстра павловская,
7 — люстра екатерининская с чашей,
8 — люстра трехярусная николаевская.
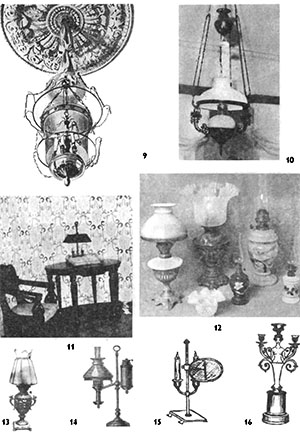
Осветительная арматура:
9 — фонарь екатерининский,
10 — лампа керосиновая подвесная,
11 — настольный подсвечник с козырьком,
12, 13 — лампы керосиновые настольные,
14 — масляная лампа (конкет),
15 — настольный подсвечник с экраном,
16 — канделябр.

Ювелирные изделия:
1 — огранка таблицей,
2 — огранка панделок,
3 — огранка бриолет,
4 — бриллиантовая огранка,
5 — огранка кабошон,
6 — эгрет,
7 — порт-букет,
8 — бант-склаваж,
9 — склаваж.



